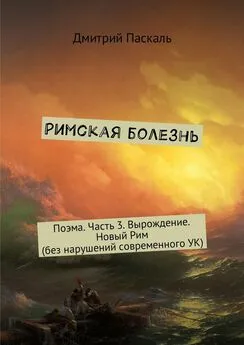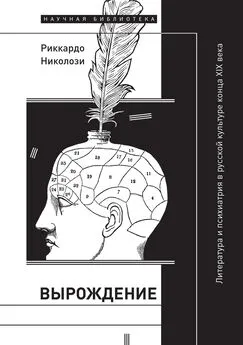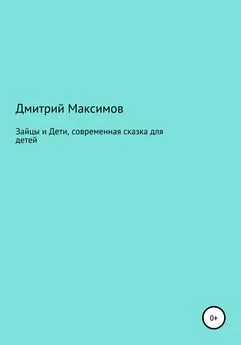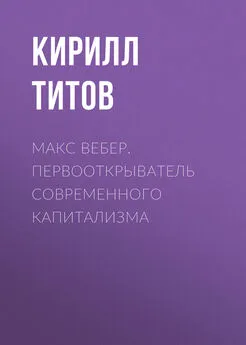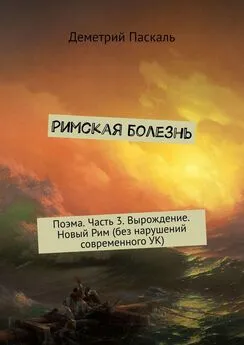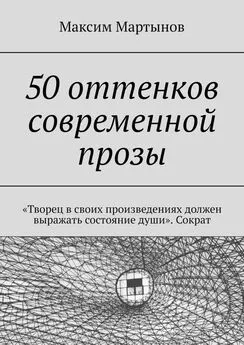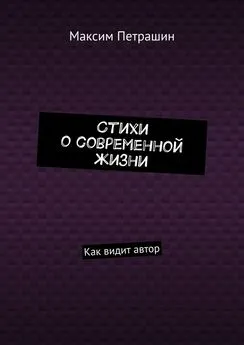Макс Нордау - Вырождение. Современные французы.
- Название:Вырождение. Современные французы.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Республика
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-250-02539-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Макс Нордау - Вырождение. Современные французы. краткое содержание
Макс Нордау
"Вырождение. Современные французы."
Имя Макса Нордау (1849—1923) было популярно на Западе и в России в конце прошлого столетия. В главном своем сочинении «Вырождение» он, врач но образованию, ученик Ч. Ломброзо, предпринял оригинальную попытку интерпретации «заката Европы». Нордау возложил ответственность за эпоху декаданса на кумиров своего времени — Ф. Ницше, Л. Толстого, П. Верлена, О. Уайльда, прерафаэлитов и других, давая их творчеству парадоксальную характеристику. И, хотя его концепция подверглась жесткой критике, в каких-то моментах его видение цивилизации оказалось довольно точным.
В книгу включены также очерки «Современные французы», где читатель познакомится с галереей литературных портретов, в частности Бальзака, Мишле, Мопассана и других писателей.
Эти произведения издаются на русском языке впервые после почти столетнего перерыва.
Вырождение. Современные французы. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как вообще буйные помешанные Ницше сознает происходящие в нем болезненные процессы и постоянно намекает на головокружительную быстроту своей мысли и на свое сумасшествие: «Мы мыслим слишком быстро... словно у нас в голове беспрерывно вертящаяся машина... Нетерпеливые умы наслаждаются помешательством, потому что помешательству свойствен веселый темп... Речь мне кажется слишком медленной... Я вскакиваю в твою колесницу, буря!.. Теперь иногда случается, что мягкий, умеренный, сдержанный человек вдруг становится бешеным, бьет тарелки, опрокидывает столы, орет, буйствует, оскорбляет весь мир и потом уходит, пристыженный, негодуя на себя. (Конечно, это иногда случается, и не только теперь, но случалось всегда, однако только с буйными помешанными...) Где же безумие, которое вам надо привить? Видите ли, я вам указываю сверхчеловека, а сверхчеловек... и есть это безумие... Моя рука — рука шута. Горе всем столам и стенам, горе всему, где есть место для арабесок и маранья шута!» Как водится с буйными помешанными, он извиняет свою болезнь: «Открыт еще великий вопрос, можем ли мы обойтись без заболевания, даже в интересах дальнейшего развития добродетели, и не нуждается ли, в особенности, жажда познания и самопознания столько же в больной душе, как в здоровой». Наконец, у Ницше не отсутствует и встречающееся у буйных помешанных чувство необыкновенного здоровья и благополучия: его душа становится «все светлее и все здоровее»; «мы, аргонавты идеала, здоровее, чем люди этого бы желали, опасно здоровы, все снова здоровы» и т. д.
Вот в кратких чертах вызванные обманом чувств особая окраска, форма и содержание мышления Ницше. И этого несчастного психического больного, писания которого представляют собой бесконечный горячечный бред и каждой строкой своей громко свидетельствуют о буйном помешательстве автора, признали серьезным «философом», а его болтовню — «философской системой». Специалист по философии, автор многочисленных философских трудов г. Кирх-нер, говоря в газетной статье об одной из книг Ницше, категорически утверждает, что «она изобилует здоровьем»; ординарные профессора, как, например, фрейбургский профессор Адлер и другие, называют Ницше «смелым и оригинальным мыслителем» и подвергают его «философию» самой серьезной критике, вторя ей с одушевлением или позволяя себе те или другие тщательно мотивированные возражения! Ввиду такого безнадежного тупоумия нельзя удивляться, если трезвая и здоровая часть современной молодежи, скороспело обобщая вопрос, переносит на самую философию презрение, заслуженное официальными ее представителями, которые осмеливаются знакомить своих учеников с высшей из наук и не обладают даже способностью отличить бессвязный бред буйного помешанного от разумного мышления.
Г. Тюрк в упомянутом нами уже сочинении дает чрезвычайно удачную характеристику учеников Ницше. Ссылаясь на известный лозунг последнего «Нет истины — все дозволено», он говорит: «Это мудрое изречение, раздающееся из уст нравственно помешанного ученого, встретило большое сочувствие у людей, которые сами страдают нравственным изъяном и потому склонны протестовать против требований общества. В особенности умственный пролетариат больших городов восторженно приветствует новое великое открытие, что и мораль, и истина совершенно излишни и только вредят нормальному развитию индивида. Они давно уже в душе себе говорили, что «истины нет», что «все дозволено», и сообразовались в своей жизни, насколько было возможно, с этим лозунгом; но теперь они могут громко, самоуверенно провозглашать его, потому что Фридрих Ницше, этот новый пророк, сам превознес его, как высшую мудрость... Право не общество, высоко ставящее мораль, науку и истинное искусство,— Боже упаси! — правы они, преследуя только личные, своекорыстные индивидуальные цели, принимая на себя только личину правдолюбия, они, эти фальшивомонетчики истины, эти бессовестные кропатели фельетонов, лживые рецензенты, литературные воры и изготовители псевдореалистического гнилого товара, они — истинные герои, господа положения, свободомыслящие умы!»
Это верно, но не исчерпывает вопроса. Правда, кучка, восторгающаяся Ницше, состоит из прирожденных преступников, отличающихся слабостью воли, и из наивных дураков, опьяняющихся созвучием слов. Но кроме этих висельников, лишенных решимости и силы для совершения преступления, и межеумков, оглушаемых и словно гипнотизируемых рокотом и шумом потока слов, вокруг знамен сумасшедшего болтуна собрались люди, подлежащие другому, отчасти более мягкому суду. Дело в том, что безумие Ницше содержит в себе некоторые представления, отчасти близко подходящие к очень распространенным ныне воззрениям, отчасти возбуждающие обманчивую мысль, будто бы они, несмотря на явное свое преувеличение и полную извращенность, все-таки заключают в себе зерно правды и основательности. Вот этими-то представлениями объясняется, что к Ницше примыкают люди, заслуживающие только упрека в неясности мысли и неспособности к трезвой критике.
Основная идея Ницше, именно полное неуважение и скотское презрение ко всем чужим правам, насколько они являются помехой для удовлетворения эгоистических страстей, должна нравиться поколению, выросшему в эпоху торжества системы Бисмарка. Князь Бисмарк — громадная личность, которая проносится над страной, как тропический ураган: она все сокрушает на своем пути и оставляет после себя только опустошение в сфере чувства законности, подавление характеров, уничтожение нравственности. Система Бисмарка означает в государственной жизни своего рода иезуитизм в кирасе. «Цель оправдывает средства», но в данном случае средства не как у ловких сыновей Лойолы, хитрость, цепкость, скрытое коварство, а откровенная грубость, насилие, кулак, меч. Цель, оправдывающая средства, пускаемые в ход иезуитом в кирасе, может иметь иногда общеполезный характер, но по большей части она эгоистична. У творца этой системы давно отжившее варварство имеет еще обаяние величия, потому что оно вызвано мощной волей, рискующей собой и вступающей в борьбу с дикой решимостью: «Победа или смерть». Но у подражателей эта могучая воля превращается в «политику натиска» («Schneidigkeit»), т.е. в подлейшую и презреннейшую трусость, пресмыкающуюся пред сильным и истязающую с крайним нахальством безоружного, не сопротивляющегося, слабого, от которого нельзя ожидать опасного отпора. Все сторонники этой «политики натиска» с благодарностью узнают себя в «сверхчеловеке» Ницше и спешат присоединиться к его «философии». Его учение показывает, как система Бисмарка отражается в голове буйного помешанного. Ницше не мог выдвинуться и найти себе отклик в другую эпоху, как именно в эпоху Бисмарка. Конечно, Ницше всегда был бы буйным помешанным, но его сумасшествие не получило бы того направления и той особой окраски, которыми оно теперь отличается. Правда, Ницше иногда сердится, что «самый удачный тип новой Германии... лишен по отношению ко всему, что глубоко, быть может, «натиска», и предостерегает: «Мы поступаем умно, не обменивая нашу старую репутацию народа, отличающегося глубиной мысли, слишком дешево на прусский «натиск» и берлинский «виц». Но из других мест его сочинений видно, что его, собственно, злит в этой «политике натиска»: она отводит слишком почетную роль офицеру! Как только он (т.е. прусский офицер) раскрывает рот или приходит в движение, он оказывается самой нескромной и вульгарной фигурой в старой Европе — сам этого не сознавая... Не сознают этого и добрые немцы, восторгающиеся им, как человеком самого лучшего общества, и охотно позволяющие ему задавать тон». Вот этого Ницше никак не может допустить — Ницше, полагающий, что не может существовать Бога, потому что, если бы он существовал, то им должен бы быть сам Ницше! Он не может допустить, чтобы «добрый немец» ставил офицера выше его. Но за исключением этого обстоятельства, Ницше все хвалит в системе «натиска», превозносит ее, как «бесстрашие во взоре, храбрость и суровость разлагающей руки, цепкую настойчивость в опасных экспедициях к Северному полюсу» и радостно пророчит, что для Европы начинается железный век, век войн, солдат, оружия, насилия; следовательно, вполне естественно, что сторонники «натиска» приветствуют в Ницше своего философа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: