Анри Бергсон - Два источника морали и религии
- Название:Два источника морали и религии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Канон
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:5-88373-001-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анри Бергсон - Два источника морали и религии краткое содержание
Бергсон А."Два источника морали и религии"
«Два источника морали и религии» — это последняя книга выдающегося французского философа-интуитивиста Анри Бергсона (1859–1941). После «Творческой эволюции» — это самое знаменитое его произведение, которое впервые переводится на русский язык. В этой книге впервые разрабатываются идеи закрытого и открытого общества, закрытой и открытой морали, статической и динамической религии. Автор развивает поразительно глубокие, оригинальные и пророческие мысли о демократии, справедливости, об опасностях, которые подстерегают человечество, и о том выборе, который предстоит ему сделать.
Два источника морали и религии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Глава III
Динамическая религия
Оглянемся назад, на жизнь, за развитием которой мы ранее проследили до того момента, когда из нее должна была возникнуть религия. Огромный поток творческой энергии устремляется в материю, чтобы получить от нее то, что он сможет. В большинстве пунктов он останавливается; эти остановки выражают, на наш взгляд, появление новых живых видов, то есть организмов, в которых наше восприятие, преимущественно аналитическое и синтетическое, различает огромное множество элементов, координирующихся между собой, чтобы выполнять огромное множество функций. Организационная деятельность была, однако, лишь самой остановкой, простым актом, подобным погружению ноги в песок, благодаря которому тысячи песчинок мгновенно образуют какой-то рисунок. Можно было бы думать, что на одной из линий, по которой ей удалось продвинуться дальше всего, эта жизненная энергия увлечет за собой все лучшее и прямо продолжит свой путь; но она уклонилась от этого пути, и все оказалось на изломе: возникли существа, чья деятельность бесконечно вращалась в одном и том же кругу, чьи органы были совершенно готовыми инструментами, вместо того чтобы оставлять место, открытое для непрерывно возобновляемого изобретения орудий, чье сознание двигалось в сомнамбулизме инстинкта, вместо того чтобы воспрянуть и усилиться в осознанном мышлении. Таково состояние индивида в обществах насекомых с искусной организацией, но при этом с полным автоматизмом. Творческое усилие совершилось успешно только на линии эволюции, которая привела к созданию человека. Проходя сквозь материю, сознание на этот раз, подобно слепку, приняло форму ума, производящего орудия. И изобретение, несущее в себе рефлексию, расцвело в форме свободы.
Но в уме таилась известная опасность. До того все живые существа жадно пили из чаши жизни. Они наслаждались медом, который природа поместила у ее края; они пожирали, сверх того, остальное, не замечая этого. Что касается ума, то он заглядывает глубоко, до самого дна. Ибо умное существо живет уже не только в настоящем; нет рефлексии без предвидения, нет предвидения без тревоги, нет тревоги без одновременного ослабления привязанности к жизни. Главное — нет человечества без общества, а общество требует от индивида бескорыстия, которое насекомое в своем автоматизме доводит до полного самозабвения. Для поддержания этого бескорыстия нельзя рассчитывать на рефлексию. Ум, если только он не принадлежит тонкому философу-утилитаристу, скорее посоветует занять позицию эгоизма. Стало быть, с двух сторон он требовал противовеса. Или, точнее, он был уже снабжен им, так как природа, подчеркнем еще раз, не создает свои творения из кусков и обломков: то, что многосложно в своем проявлении, может быть простым в своем возникновении. Возникающий вид привносит вместе с собой, в неделимости устанавливающего его акта, все детали, делающие его жизнеспособным. Сама остановка творческого порыва, выразившаяся в появлении нашего вида, породила вместе с человеческим умом, внутри человеческого ума, мифотворческую функцию, которая вырабатывает религию. Такова, стало быть, роль, таково значение религии, которую мы назвали статической, или естественной. Религия есть то, что у существ, наделенных рефлексией, должно заполнить возможный недостаток привязанности к жизни.
Правда, сразу же можно заметить другое возможное решение проблемы. Статическая религия привязывает человека к жизни и, следовательно, индивида к обществу, рассказывая ему истории, сравнимые с теми, которыми убаюкивают маленьких детей. Конечно, это истории, не похожие на другие. Рожденные из мифотворческой функции по необходимости, а не из простого удовольствия, они копируют воспринимаемую реальность настолько, что продолжаются в действиях; другие фантастические творения имеют ту же тенденцию, но они не требуют, чтобы мы подчинялись им; они могут оставаться лишь в состоянии идей; первые же, наоборот, являются идеомоторными. Тем не менее это мифы, которые, как мы видели, часто принимаются критическими умами в действительности, но которые они по праву должны были бы отбросить. Активное, подвижное начало, единственная остановка которого в крайнем пункте была выражена человечеством, несомненно требует от всех сотворенных видов, чтобы они цеплялись за жизнь. Но, как мы некогда показали, если это начало порождает все виды сразу, подобно дереву, простирающему во все стороны ветви, заканчивающиеся почками, то именно внесение в материю свободной творческой энергии, именно человек или какое-нибудь другое существо, одинаковое с ним по значению (мы не говорим, одинаковое по форме), составляют смысл всего развития целиком. Весь ансамбль мог бы значительно превосходить то, что он собой представляет, и, вероятно, так оно и происходит в мирах, где поток устремился через более податливую материю. Поскольку поток мог бы никогда не найти свободного прохода, даже в этой недостаточной степени, в этом случае качество и количество творческой энергии, представленной человеческой формой, никогда бы не высвободилось на нашей планете. Но, как бы то ни было, жизнь есть нечто столь же желательное, даже более желательное для человека, чем для других видов, поскольку последние испытывают ее как следствие, производимое творческой энергией мимоходом, тогда как у человека она есть сам успех этого усилия, каким бы неполным и непрочным он ни был. Почему же в таком случае человеку не обрести вновь уверенность, которой ему недостает или которую могла поколебать рефлексия, чтобы восстановить порыв, вновь не вернуться на тот путь, откуда пришел этот порыв? Сделать это он не сможет посредством ума или, во всяком случае, только с помощью ума: последний скорее пойдет в обратном направлении; у него особое предназначение, и, когда он возносится в своих построениях, он заставляет нас, самое большее, понимать возможности, он не касается реальности. Но мы знаем, что вокруг ума осталась бахрома интуиции, расплывчатая и затухающая. Нельзя ли ее закрепить, усилить и, главное, дополнить в действии, так как она стала чистой видимостью только из-за ослабления своей первоосновы и, если можно так выразиться, из-за абстракции, осуществленной на самой себе?
Душа, способная на такое усилие и достойная его, не станет даже задаваться вопросом, является ли первооснова, с которой она теперь соприкасается, трансцендентной причиной любых вещей или же это лишь ее земное представительство. Ей достаточно будет почувствовать, что она пропитывается, не растворяя в нем свою индивидуальность, неким существом, которое может неизмеримо больше, чем она, подобно тому как железо пропитывается огнем, раскаляющим его докрасна. Ее привязанность к жизни будет отныне неотделима от этой первоосновы, радостью в радости, любовью к тому, что есть только любовь. Помимо того душа будет отдаваться обществу, но обществу, которое будет уже всем человечеством, любимым любовью к тому, что есть его первооснова. Вера, приносимая человеку статической религией, окажется благодаря этому преображенной: не будет больше беспокойства о будущем, не будет тревожного обращения к самому себе; материально ее объект не будет уже стоить труда, а морально обретет слишком высокое значение. Теперь из безразличия к каждой вещи в отдельности будет создаваться привязанность к жизни в целом. Но надо ли в таком случае еще говорить о религии? Или надо ли было уже применять это слово по отношению ко всему предыдущему? Не различаются ли оба явления до такой степени, что исключают друг друга и не могут называться одним и тем же именем?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



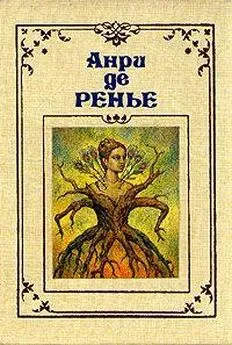


![Анри Монфрейд - Приключения в Красном море. Книга 3 [Погоня за «Кайпаном». Злополучный груз]](/books/1088066/anri-monfrejd-priklyucheniya-v-krasnom-more-kniga-3.webp)
![Анри Монфрейд - Приключения в Красном море. Книга 2 [Человек, который вышел из моря. Контрабандный рейс]](/books/1088118/anri-monfrejd-priklyucheniya-v-krasnom-more-kniga-2.webp)
![Анри Монфрейд - Приключения в Красном море. Книга 1 [Тайны красного моря. Морские приключения]](/books/1088383/anri-monfrejd-priklyucheniya-v-krasnom-more-kniga-1.webp)