Анри Бергсон - Два источника морали и религии
- Название:Два источника морали и религии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Канон
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:5-88373-001-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анри Бергсон - Два источника морали и религии краткое содержание
Бергсон А."Два источника морали и религии"
«Два источника морали и религии» — это последняя книга выдающегося французского философа-интуитивиста Анри Бергсона (1859–1941). После «Творческой эволюции» — это самое знаменитое его произведение, которое впервые переводится на русский язык. В этой книге впервые разрабатываются идеи закрытого и открытого общества, закрытой и открытой морали, статической и динамической религии. Автор развивает поразительно глубокие, оригинальные и пророческие мысли о демократии, справедливости, об опасностях, которые подстерегают человечество, и о том выборе, который предстоит ему сделать.
Два источника морали и религии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В «Двух источниках» он продолжает использовать понятие «прогресс» в то время, когда оно уже утратило свою былую популярность. Но его понятие прогресса так же далеко от рационалистических, позитивистско-эволюционистских или марксистских представлений, как и понятие эволюции. Он не верит в творческую силу масс, хотя и сочувствует им. Прогресс в истории существует благодаря творческой деятельности немногих личностей, достижения которых затем распространяются вширь. Это относится и к «механике», и к «мистике».
Необходимо подчеркнуть, что многие темы и идеи бергсоновской социальной философии и философской антропологии, представленные в «Двух источниках», перекликаются с некоторыми ключевыми идеями русской философии XIX–XX веков. Это относится не только к интуитивистской методологии Бергсона, но и к его предметным теориям и суждениям относительно морали, религии, общества, человечества, Вселенной, наконец, относительно сущности Бога и его взаимоотношений с названными сущностями. Уместно указать в данной связи на философские воззрения Η. Ф. Федорова, В. С. Соловьева, П. А. Флоренского, Н. А. Бердяева, В. И. Вернадского и многих других русских философов. Есть основания полагать, что будущего исследователя взаимосвязей идей Бергсона и представителей русской социально-философской, фило- софско-антропологической и богословской мысли ждет немало интересных наблюдений и находок.
Философия Бергсона в «Двух источниках» — это обоснование свободы, ответственности и творческой силы индивида, общества, человеческого рода. Это мужественный и честный гуманизм, который противостоит трусливой и инфантильной философии спихивания собственной индивидуальной и коллективной ответственности на исторические обстоятельства, «законы» природы и общества [97] Типичный образец такого рода морали мы находим в высказывании Генриха, героя пьесы-сказки Е. Шварца: Генрих. Но позвольте! Если глубоко рассмотреть, то я лично ни в чем не виноват Меня так учили. Ланцелот. Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая? (Дракон, III).
, традицию, происки внутренних и внешних «врагов», на трансцендентную, божественную или дьявольскую, волю и т. д. Несомненно, человек, общество, человеческий род располагают определенными, доставшимися им от природы свойствами, способностями, богатствами, но качества людей как людей зависят от того, что они сами делают с доставшимся им природным наследием, от их собственных усилий, от их собственной воли.
Разумеется, суждения даже такого глубокого и тонкого философа, как Бергсон, могут вызвать ряд вопросов, сомнений и возражений. Так, достаточно произвольным выглядит у него приписывание статуса «естественности», «природности» одним явлениям и отрицание этого статуса у других, что вытекает из многозначности его истолкования природы в целом. Нет ничего более искусственного, чем понятие «естественного». Оно существует не в при- роде, а в культуре, и дает простор для самых разнообразных и произвольных интерпретаций. Произвольной выглядит у Бергсона трактовка, например, войны как явления «естественного» (в бергсоновском смысле, то есть без положительных оценочных ассоциаций), а евангелической по своей сути демократии — как * неестественной».
Вызывает сомнение безоговорочная характеристика интеллекта как заведомо индивидуалистической, эгоистической, антисоциальной сущности и инстинкта и эмоции — как силы сугубо коллективистской, альтруистической, социальной. Во всяком случае, ни данные науки, ни опыт человеческой рефлексии истинность такого представления не доказывают (так же, впрочем, как и противоположного представления об изначальном альтруизме интеллекта и эгоизма эмоциональной сферы). Вообще присущее Бергсону воспевание эмоционально-волевого начала вне начала рационального или в противовес ему [98] При этом, вопреки ходячему мнению, Бергсона нельзя считать антиинтеллектуалистом. Он отвергает лишь ту разновидность интеллектуализма, которая тождественна сциентистской идеологии, но он верит в умопостигаемость реальности и в способность человеческого духа постичь эту умопостигаемость. См. об этом: Husson L. V intellectualisme de Bergson. P., 1947.
часто играло в истории отрицательную и даже зловещую роль.
В связи с этим остается неясным ответ на следующий вопрос: как отличить бергсоновского «великого мистика», морального героя от шарлатана, параноика или злодея без контроля со стороны разума, в частности воплощенного в науке? Ведь отрицательные герои часто выступают под маской святых и становятся объектами массового поклонения. История знает множество случаев подобного обмана и самообмана масс, когда слепой энтузиазм увлекал их за такими лидерами. Трагические последствия эмоционально-волевого, зачастую романтического, порыва в сочетании со «сном разума» хорошо известны.
Тем не менее «Два источника морали и религии», бесспорно, одно из самых значительных философско-антропологических и социально-философских сочинений XX века. В книге явственно присутствует пережитый автором опыт первой мировой войны и острое предчувствие второй. Бергсон был патриотом, горячо и самоотверженно любившим свое отечество [99] Вот как характеризовал Бергсон понятие отечества: «Там, где мы встречаем группу индивидов, которые воодушевлены одними и теми же желаниями и надеждами, совместно испытали радости и страдания, которые одинаково думают о жизненных вопросах, т. е. вопросах, от которых зависит будущее; там, где мы констатируем совокупность усилий, сходящихся в одной точке, мы можем сказать, что существует отечество. Отечество образуется общностью усилий (...) Идеи, чувства, желания, какими бы различными ни были они в деталях, как бы сливаются в одно целое в едином усилии». Bergson H. Cours de Morale à Clermont. Цит. по: Hude H. Bergson. II, p. 177.
, которое, в свою очередь, ответило ему такой же любовью. Однако опыт первой мировой войны, наблюдение зловещих проявлений нацизма и большевистского тоталитаризма, активная деятельность самого Бергсона по созданию первых международных организаций побудили его искать объяснения того, как любовь к своему отечеству вырождается в ненависть к чужому, патриотизм — в спесивый и агрессивный национализм, социальная солидарность — в звериную стадность. В 1934 году Бергсон отметил, что «именно Гитлер доказал истинность «Двух источников» [100] Chevalier J. Entretiens avec Bergson. P., 1959, p. 215.
. Еще одним человеком, доказавшим то же самое, был, конечно, Сталин. Близкие друг другу сталинский и гитлеровский тоталитарные режимы экспериментальным и трагическим образом продемонстрировали обоснованность теории закрытого общества, закрытой морали, закрытой души.
Интервал:
Закладка:



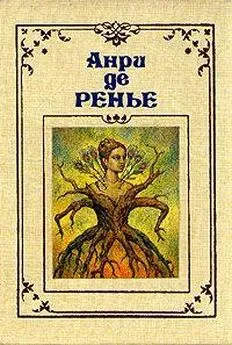


![Анри Монфрейд - Приключения в Красном море. Книга 3 [Погоня за «Кайпаном». Злополучный груз]](/books/1088066/anri-monfrejd-priklyucheniya-v-krasnom-more-kniga-3.webp)
![Анри Монфрейд - Приключения в Красном море. Книга 2 [Человек, который вышел из моря. Контрабандный рейс]](/books/1088118/anri-monfrejd-priklyucheniya-v-krasnom-more-kniga-2.webp)
![Анри Монфрейд - Приключения в Красном море. Книга 1 [Тайны красного моря. Морские приключения]](/books/1088383/anri-monfrejd-priklyucheniya-v-krasnom-more-kniga-1.webp)