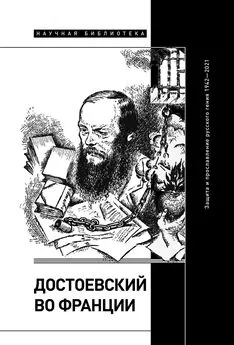Коллектив авторов - Ф. М. Достоевский: писатель, мыслитель, провидец. Сборник статей
- Название:Ф. М. Достоевский: писатель, мыслитель, провидец. Сборник статей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Изд-во ПСТГУ
- Год:2013
- Город:М.
- ISBN:978-5-7429-0735-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Ф. М. Достоевский: писатель, мыслитель, провидец. Сборник статей краткое содержание
Книга «Ф. М. Достоевский. Писатель, мыслитель, провидец» призвана вернуться к фундаментальным вопросам, поставленным в творчестве Достоевского, обсудить и оценить ответы, данные им, его предсказания, его прозрения и заблуждения.
Федор Михайлович Достоевский, 130-летие со дня смерти которого отмечалось в 2011 году, остается одним из наиболее читаемых писателей во всем мире. В главном это обусловлено сосредоточенностью его произведений на фундаментальных вопросах человеческого бытия: о смысле жизни, о существовании Бога, о Церкви, об основах морали, о свободе, ее цене и ее границах, о страдании и его смысле, о справедливости, о социализме и революции, о спасении, о вере и науке, о России и Западной Европе и т. п. В своих художественных произведениях, публицистических статьях, черновиках Достоевский выступает перед нами не просто как писатель, а одновременно и как глубокий мыслитель и философ, бесстрашно исследующий глубины человеческой жизни, касающийся всех «проклятых вопросов» человеческого существования, «моделирующий» в позициях своих героев возможные ответы на эти вопросы. Достоевский оказывается удивительно актуален в наше время, когда Россия переживает очередной переходный период своей истории. Еще раз вернуться к фундаментальным вопросам, поставленным в творчестве Достоевского, обсудить и оценить ответы, данные им, его предсказания, его прозрения и заблуждения и была призвана книга «Ф. М. Достоевский. Писатель, мыслитель, провидец».
Ф. М. Достоевский: писатель, мыслитель, провидец. Сборник статей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В то же время эти слова напрямую вытекают из слов евангелиста Иоанна Богослова: «Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает (ό Θεός έν ήμΐν μένει, и любовь Его совершенна (τετελειωμένη) есть в нас». (1 Ин 4. 12). Любовь нисходит от Бога в душу человека и только через любовь человек способен узреть Бога. Любовь есть путь обожения человека в ней и через нее он по благодати устремляется к Богу. Таким образом, непостижимый и недостижимый Бог в любви становится очевидным и постигаемым, Его присутствие ощущается и открывается в акте любви. В этом смысле концепт любви у Достоевского, grosso modo , полностью вытекает из теологии любви ев. Иоанна Богослова.
Присутствие Другого как трансцендентного субъекта предлагает Спасение. В своей свободе человек имеет возможность принять это предложение или отвергнуть. В этом есть суть христианского вызова во всем своем адском мучении, в котором пребывает экзистенция. Апостол Павел говорит: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (Рим 7. 19–20). Вот свидетельство величайшего из христиан, который открывает нам глубину человеческого сердца. Отсюда понимаем мы, что «неудача христианства» есть человеческая неудача, а не Божья неудача [170] Бердяев Николай. О достоинстве христианства и недостоинстве христиан. Париж: YMCA-Press, 1928. С. 29. (Серия «Христианство, атеизм и современность». № 1).
.
Пример глубокого проникновения авторской позиции (психологии автора) и фундаментального значения его текста представляет известное письмо Н.Д. Фонвизиной (конец января – 20-е числа февраля 1854 г., Омск), в котором Достоевский раскрывает антропологический конфликт пути к вере и видно постоянное присутствие архетипа Спасителя в нем: «Я скажу Вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа<���ти>чнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» [171] Собр. соч.: В 15 т. Т. 15. С. 95–98.
.
Это сущностная мысль. Христианский вызов сегодня, после Ницше, не допускает поверхностность общих проповедей, которые направлены равнодушным: «Равнодушие верующих – вещь гораздо более ужасная, чем тот факт, что существуют неверующие» [172] Свящ. А. Ельчанинов. Отрывки из дневника.
. Христианский вызов – это самый тяжелый экзистенциальный опыт страдания, но который приводит к Логосному свету несотворенных энергий.
Видно, что для нас вместо «грамматики», деконструкции или семиотики текста, самое важное присутствие Истины в тексте/ истина текста, которую нам особенная художественная структура сообщает. Речь идет об уровне, который по определению направляет на границы лингвистических/филологических подходов, где в основе вопрос Истины не существует. Но раскрывается, что Достоевский проникает в самую антропологическую суть религиозного бытия и его отношения к Трансценденции. В целом эта концепция предлагает возвращение к ранневизантийской идее, подразумевающей глубинную связь (греч. Xuvepyoç) между автором, текстом и реципиентом , основанную на преображении духа, который конституирует наивысший мистический христианский смысл. Или, словами священника А. Ельчанинова, который повторяет утверждение византийской патристики: «Необходимо внутреннее совершенство, чтобы понять совершенное» [173] Там же.
.
Антропология Ф. М. Достоевского
(религиозно-философский контекст)
А. Гачева д-р филол. наук
Памяти Ю.Ф. Карякина
«Русская философия… больше всего занята темой о человеке, о его судьбе и путях, о смысле и целях истории» [174] Зеньковский В.В. История русской философии. T. 1. Ч. 1. Л., 1991. С. 16.
– так обозначил прот. Василий (Зеньковский) две главные темы, волновавшие отечественную философскую мысль с самых первых самостоятельных ее шагов. Русская философия зарождалась в лоне литературы: в чеканных, вдохновенных глаголах Г.Р. Державина, лирико-философских размышлениях А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, Е.А. Баратынского и Ф.И. Тютчева, в прозе Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского. От нее унаследовала интерес к человеку, к парадоксам и антиномиям его природы («я царь – я раб – я червь – я бог!» [175] Державин Г.Р. Бог // Русская философская поэзия. СПб., 1992. С. 51.
), напряженное алкание смысла («Смысла я в тебе ищу» [176] Пушкин А.С. Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы // Там же. С. 80.
). Рука об руку с литературой «в наш век отчаянных сомнений, / в наш век, неверием больной» [177] Тютчев Ф.И. Памяти М.К. Политковской // Тютчев Ф.И. Соч.: В 2 т. T. 1. М., 1980. С. 220.
стремилась возродить в душе человеческой иссякшие источники веры, утвердить ее «на камени исповедания Твоего», призвать к подвигу «деятельной любви».
Достоевский для русских религиозных мыслителей конца XIX – начала XX в. был не просто духовным собратом. В его творчестве, пронизанном новозаветным «Вера без дел мертва» (Иак 2. 20), в его «откровении о человеке» [178] «Откровение о человеке в творчестве Достоевского» – так называлась одна из работ НА. Бердяева (см.: Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства: В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 151–176).
, истекающем из заповеди Спасителя: «Будьте совершенны, как Отец Ваш Небесный совершен» (Мф 5. 48), они обретали твердый фундамент для построения антропологии, которая мыслилась не апологией гордынного, самоопорного «я», но антроподицеей, словом о человеке как сыне и наследнике Божием , призванном к соработничеству на ниве Господней, дабы принести своему Творцу плод сыновней любви. Здесь была налицо уже не доверчивая детская вера, при которой разум молчит, а глаголет лишь сердце, но и не разлад умственного и сердечного, когда острый, скептический «Эвклидов» ум бросает вызов идее Бога, здесь возникала симфония ума и сердца, равно открытых Слову, Которым «все начало быть» (Ин 1.3).
Слова Достоевского об «осанне», проходящей «через большое горнило сомнений» [179] Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 27. Л., 1974. С. 86. Далее ссылки на это издание даются в скобках после цитаты. Первая цифра указывает том, вторая – страницу.
(11; 179), помнят многие. Вопросы, прозвучавшие в подготовительных материалах к роману «Бесы»: «Возможно ли серьезно и вправду веровать?», «Возможно ли веровать цивилизованному человеку?» (11; 182), – вряд ли известны кому-то, кроме специалистов. Между тем эти вопросы для Достоевского – главные вопросы его эпохи, в них своего рода критический итог Нового времени, утвердившего секулярность нормой мысли и жизни и в конечном счете упершегося в ее потолок.
Интервал:
Закладка:



![Коллектив авторов - Осторожно, писатели! [сборник]](/books/577256/kollektiv-avtorov-ostorozhno-pisateli-sbornik.webp)


![Коллектив авторов - Полевое руководство для научных журналистов [сборник статей]](/books/1096204/kollektiv-avtorov-polevoe-rukovodstvo-dlya-nauchnyh.webp)
![Коллектив авторов - Ф. В. Булгарин – писатель, журналист, театральный критик [litres]](/books/1143258/kollektiv-avtorov-f-v-bulgarin-pisatel-zhurna.webp)