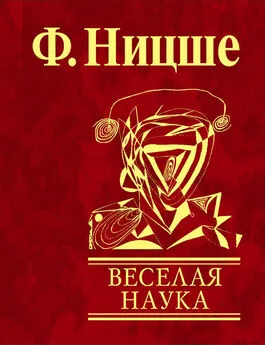Фридрих Ницше - Веселая наука
- Название:Веселая наука
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Фолио»3ae616f4-1380-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:2010
- Город:Харьков
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фридрих Ницше - Веселая наука краткое содержание
«Веселая наука» (1882) была одной из самых любимых книг Фридриха Ницше. Она не только несла определенный полемический заряд, но и имела целью предложить позитивную программу по преобразованию науки, философии и, в конце концов, мировоззрения. Хочется надеяться, что этот оригинальный проект будет интересен современному читателю.
Веселая наука - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Негреческий esprit. – Греки всегда оказывались неописуемо логичными и ровными: по крайней мере, за весь продолжительный период их доброго времени, они никогда не чувствовали отвращения к этим особенностям своего ума, как это часто случается с французами, которые охотно делают небольшие скачки в противоположную сторону и собственно терпят дух логики только потому, что он обнаруживает подобными скачками свою учтивость, свое отречение ради того, чтобы остаться учтивым в обращении. Логика им кажется таким же необходимым элементом, как хлеб и вода, но если им приходится только одною ею питаться, то они относятся к ней, как к пище, на которую обречен заключенный. В хорошем обществе никто не должен безусловно отстаивать правоту своих взглядов, как этого требует всякая чистая логика, и небольшая доля неразумного кроется во всяком французском esprit. – Чувство общительности было развито у греков гораздо меньше, чем у французов настоящего или прошлого времени: вот почему так мало было esprit даже у богато одаренных духовными качествами людей Греции, вот почему было так мало остроумия у людей, пользовавшихся среди них славой остроумных, вот почему… да ну! Все равно мне не поверят, а сколько еще таких положений лежит у меня на душе? – Est res magna tacere, говорит Марциал вместе со всеми болтунами.
Переводы. – Степень исторического чутья, которым обладает данное время, можно оценить по тем переводам, которые оно дает, и по тому стремлению, которое оно проявляет в усвоении жизни прошлых веков и старинных произведений. Французы времени Карлейля и революции так властно распоряжались римскими древностями, как мы себе никогда не позволили бы, благодаря тому, что обладаем более развитым историческим чутьем. А сами-то римские древности: как грубо и вместе с тем наивно накладывали они свою руку на все хорошее и высокое, что встречалось в еще более старинных греческих произведениях! Как умышленно и беззаботно сбивали всю пыль с крыльев бабочки в один момент! Так переводил Гораций отрывки из Алкея или Архилоха, а Проперц-Каллимаха и Филета (поэтов, которых, насколько мы можем судить, следует поставить в один ряд с Феокритом): они не обращали ни малейшего внимания на то, что творцы этих произведений пережили те или другие чувства и следы волновавших их мыслей оставили на своих произведениях! – Как поэты, они не выказывали ни малейшего расположения окунуться в ту обстановку антикварского сыска, который обыкновенно предшествует историческому чутью; как поэты, они не придавали никакого значения всем этим личным предметам и именам и всему, что было связано с каким-нибудь городом, с каким-нибудь берегом, с каким-нибудь столетием и служило одеждой и маской того или другого факта, вмиг заменяя предлагаемую обстановку обстановкой римской. Они как бы обращаются к нам с вопросом: «не должны ли мы подновить для себя все древнее и отыскивать в нем только родственные для себя черты? Не обязаны ли мы вдохнуть свою душу в это мертвое тело? Ведь оно уже мертво, а как отвратительно все мертвое!» – Они не знали того удовольствия, которое может дать историческое чутье; им было неприятно все прошлое и все чужеземное, и, как римлян, их тянуло к приемам римского завоевания. И действительно, в переводах они являлись подобными завоевателями, – они не только отбрасывали все историческое: они старались намекнуть, что данное произведение является современным, – прежде всего вычеркивали в нем самое имя поэта, а подписывали его своим собственным именем, – и делали все это не из страсти к грабежу, а во имя идеи imperium Romanum.
О происхождении поэзии. – Горячие сторонники всего фантастичного в жизни человечества, являющиеся в то же время защитниками инстинктивной морали, делают следующее заключение: «если пользу считали всегда высшим божеством, то чем объясняется появление поэзии? – эта рифмованная речь, которая скорее мешает, чем способствует ясности изложения, проявила, да и теперь еще проявляет быстрый рост повсюду на земле, как бы издеваясь над всякой целесообразностью, преследующей какие-либо полезные цели! Дикая прелесть поэзии, которая не представляет никаких разумных оснований для своего существования, опровергает вас, господа утилитаристы! Возвышало человека, влекло его к морали и искусству то, что всегда уклонялось от каких бы то ни было утилитарных целей»! Но я должен здесь заступиться за утилитаризм, – он так редко бывает прав, что при случае необходимо и его пожалеть! В то древнее время, когда поэзия достаточно созрела для того, чтобы выступить на сцену жизни, она явно преследовала утилитарные цели высокой важности, хотя они и были порождены суеверием. В самом деле, вводя в речь рифму, ее подчиняли такой силе, которая преобразовывает все атомы фразы, заставляет делать выбор между словами, окрашивает мысль в новый цвет и делает ее чем-то более мрачным, более чуждым, более далеким. Заметив тот факт, что стих запоминается лучше бессвязной речи, люди решили, что просьба в виде рифмованной речи должна и на богов производить более глубокое впечатление; да притом же рифмованное движение речи, полагали, может быть услышано с большего расстояния и стихи скорее достигнут слуха богов. Но прежде всего люди хотели извлечь пользу из того элементарного чувства принуждения, которое человек испытывает на себе, когда слушает музыку: ритм является средством принуждения, он возбуждает непреодолимое стремление делать уступки, соглашаться; не только наш шаг повинуется ритму, но и сама душа, – вероятно, подобное же воздействие хотели оказать и на душу богов! Таким образом, при помощи ритма богов хотели принудить к чему-нибудь, сделать над ними известное насилие: поэзия играла по отношению к ним роль магического аркана. Существовало еще одно удивительное представление: и оно, быть может, особенно сильно содействовало возникновению поэзии. У пифагорейцев взгляд этот входил в их философскую систему и являлся известным приемом, который они применяли к делу воспитания, но, еще задолго до пифагорейцев, музыке – именно ритмичности ее – приписывали способность разряжать напряженные аффекты, очищать душу, успокаивать ferocia animi. Если потеряны равновесие и гармония души, то следовало танцевать в такт певцу, – такой был рецепт их врачебный науки. При помощи его Терпандер утишил восстание, Эмпедокл успокоил бешеного, Дамон очистил юношу, иссыхавшего от любви; при помощи его излечивали и богов, которые не знали пределов своей ярости, когда действовали под влиянием мести. Опьянение и живость аффектов достигали при этом высшего своего напряжения и бешенствующий обращался в безумного, а ищущий мести упивался этой местью: – все оргиастические культы стремятся сразу разрядить ferocia божества и обратить их в оргию, благодаря чему чувство становится непринужденнее и спокойнее, и божество оставляет человека в покое. Melos, судя по корню, от которого оно происходит, обозначает болеутоляющее средство, не потому, чтобы оно само было мягким, но лишь потому, что оно оказывает смягчающее действие. – И не только в культовых песнопениях, но и в светских песнях древнейшего периода имелась в виду магическая сила ритмичности. Так, напр., стихи, которые пелись работниками, черпавшими воду, или гребцами – предназначались для того, чтобы заколдовать тех демонов, содействие которых предполагалось в этих работах. Таким путем думали заслужить их снисходительность, отнять у них свободу и превратить в орудие человека. И как только человек приступал к какому-нибудь делу, он уже тем самым создавал для себя повод затянуть песню, ибо успех любого предприятия зависел от помощи духов: песни, которые распевались при ворожбе и заговорах, являются, по-видимому, прообразами поэзии. Если стихом пользовался и оракул, – греки говорили, что гекзаметр был изобретен в Дельфах, – то и здесь ритм должен был оказывать известное принудительное воздействие. Пророчествовать – значило первоначально что-нибудь предопределить (как можно судить об этом с большою вероятностью по корню, от которого происходит греческое слово): полагали, что на будущей можно оказать известное давление, если расположить в свою пользу Аполлона: ведь он, по древнейшему представлению, обладал не одной только способностью предвидеть грядущее. По мере того, как формула произносилась в своих буквальных и ритмических выражениях, она связывала известным образом будущее, ибо формула является изобретением Аполлона, который, в качестве бога рифм, может наложить известные обязательства на богиню судьбы. – Вообще же можно спросить: разве в распоряжении у древнего суеверного человека шло какое-нибудь еще более полезное искусство, чем искусство рифмованной речи? При помощи рифм можно было достичь всего: двинуть вперед магическими силами работу, вызвать божество, приблизить его к себе, сделать его себе послушным; направить будущее сообразно своему желанию; освободить свою собственную душу от какого-нибудь чрезмерного гнета (тоски, мании, сострадания, мстительности) и не только свою душу, но также и дух самого злобного демона: – без стиха человек был ничтожеством, при помощи же стиха он становится почти самим богом. И чувство это далеко еще не вполне и теперь искоренено, – и в настоящее время, после целых столетий упорной борьбы с подобным суеверием, мудрейшие из нас случайно чувствуют в себе неразумное пристрастие к рифме, как будто истина, подхваченная мыслью, будет ощущаться сильнее, когда она будет выражена в метрической форме. Разве не потешно видеть, что самые серьезные из философов, поскольку они делают это искренне, обращаются к изречениям поэтов для того, чтобы придать своим мыслям силу и достоверность? – таким образом для каждой истины гораздо опаснее согласие со стороны поэта, чем противоречие! Ибо еще Гомер говорил: «Ведь много лжи в словах певцов!»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: