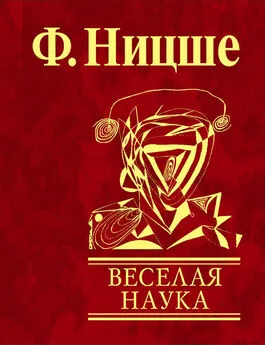Фридрих Ницше - Веселая наука
- Название:Веселая наука
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Фолио»3ae616f4-1380-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:2010
- Город:Харьков
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фридрих Ницше - Веселая наука краткое содержание
«Веселая наука» (1882) была одной из самых любимых книг Фридриха Ницше. Она не только несла определенный полемический заряд, но и имела целью предложить позитивную программу по преобразованию науки, философии и, в конце концов, мировоззрения. Хочется надеяться, что этот оригинальный проект будет интересен современному читателю.
Веселая наука - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Верующие и потребность во что-нибудь верить . – О силе (или, выражаясь яснее, о слабости человека) можно судить по тому, насколько нуждается он для своего преуспеяния в вере, насколько он ищет «прочных» основ, потрясения которых он не желает допустить, как потрясения своей опоры. Так уж устроен человек: вы можете на тысячу ладов опровергать основные положения его верований, но раз он считает их для себя необходимыми, он все-таки будет видеть в них «истину». Иным нужна еще метафизика; но и то неудержимое стремление к достоверности, которое в настоящий момент разряжается в широких массах под видом научного позитивизма, стремление, в котором сказывается наше желание иметь хоть что-нибудь прочно установленным, представляет собой также стремление к опоре, подставке, короче говоря, тот инстинкт слабости, который хотя и не создается, но сохраняется метафизикой и убеждениями всякого рода. Действительно, вокруг всех этих позитивных систем поднимается чад какого-то пессимистического омрачения, какого-то утомления, фатализма, разочарования, страха перед новым разочарованием, а при виде пережитой злобы – дурное настроение духа, приступы анархического гнева и все другие симптомы и весь этот маскарад слабости наших чувств. Даже на стремительность, с которой наши умнейшие современники забиваются по углам и щелям, напр., в увлечении патриотизмом (под этим словом я подразумеваю французский chauvinisme, а для Германии все то, что называется «немецким») или в эстетическом неясном исповедании своего рода парижского naturalisme (который выдвигает на первый план и обнаруживает только часть природы, вызывающую к себе одновременно и отвращение, и удивление – эту часть в настоящее время охотно называют le verite vreie) указывает прежде всего на нашу потребность в вере, поддержке, опоре… В верованиях особенно нуждаются там, где не хватает воли: ведь воля, как аффект приказания, является решительным признаком самовластия и силы. Таким образом, чем меньше человек умеет приказывать, тем настойчивее нуждается он в приказаниях со стороны, строгих приказаниях – будет ли исходить это повеление от князя, сословия, врача, духовного отца, догмы, партии. Отсюда можно прийти к заключению, что мировые религии, как, напр., буддизм, своим возникновением, своим внезапным обаянием обязаны какой-то неслыханной болезни воли. Да и в действительности так было: подобные религии заставали общество в таком напряженном стремлении подчиниться какому-нибудь долгу, обязательству, что люди доходили до отчаяния, до потери разума. Такие религии являлись учительницами фанатизма в то время, когда воля спала, и предлагали вместе с тем массам поддержку, новую возможность проявить свою волю, новое наслаждение волей. Фанатизм и есть именно та единственная форма «силы воли», которую могут также проявить и люди слабые, и неуверенные; она является своеобразным гипнозом всей чувственно-интеллектуальной системы, благодаря чрезмерному развитию (гипертрофии) какой-нибудь точки зрения, какого-нибудь чувства, доминирующего в данный момент. Всякий раз, как человек приходит к убеждению, что те или другие приказания ему должны быть сделаны со стороны, он становится «верующим»; в противном случае он проявлял бы желание и силу самоопределения, он думал бы о свободе воли, при которой дух отказывается от всякого верования, от всякого желания достоверности, он ловко оставался бы на легкой привязи всякой возможности и танцевал бы на краю пропасти. Такой дух был бы свободным par excellence.
О происхождении ученых. – Ученые в Европе появляются при всевозможных общественных условиях и из самых разнообразных слоев общества, как растения, которые не нуждаются в какой-нибудь специфической почве: вот почему они по самому существу своему и невольно оказываются носителями демократической мысли. Но происхождение их всегда обнаруживается в чем-нибудь. Если приучить свой глаз в каждой ученой книге, в каждом научном произведении выделять в процессе творческой работы ученого интеллектуальную его идиосинкразию, – а ведь каждый ученый обладает таковой, – то всегда за ней можно заметить «прошлое» этого ученого, его семью, а особенно род ее занятий. Всюду, где чувство признает положение: «это теперь доказано, с этой я покончил», говорит предок в крови и инстинкте ученого, который высказывается одобрительно уже из «исполненной работы» о своем угле зрения. Вера в известный довод является только симптомом того, что в данном роде работников считалось «хорошей работой». Напр., сыновья всевозможных регистраторов и конторщиков, главная задача которых состояла всегда в том, чтобы приводить в порядок разнообразный материал, разделять его по ящикам и вообще схематизировать, обнаруживают в качестве ученых склонность признавать задачу решенной, как только она будет схематизирована. Попадаются философы, которые, в сущности, исключительно схематизирующие головы, и формальная сторона отцовского ремесла стала их содержанием. Эта способность к классификациям, к созиданию категорий таким образом обнаруживает кое-что; на каждом остается отпечаток его родителей. Сын адвоката в качестве исследователя должен быть также адвокатом: прежде всего он хочет выиграть дело, а затем уже, пожалуй, быть правым. Сыновей протестантского духовенства и школьных учителей можно узнать по той наивной уверенности, с которой они признают свои положения доказанными, раз только они были высказаны задушевно, с горячностью: они в сущности привыкли, чтобы им верили, так как в этом и состояло «ремесло» их родителей! Евреи, наоборот, как по кругу своих занятий, так во всей своей прошлой истории меньше всего привыкли к доверию, – и вот взгляните на еврейских ученых: они все большие мастера в логике, говоря иначе, умеют вырывать согласие при помощи основных положений; они знают, что с таким оружием можно оказаться победителями даже там, где против них выступают расовые и классовые антипатии, даже в тех случаях, где им неохотно верят. Именно ничего нет демократичнее логики: личности она совершенно не признает и даже кривой нос принимает за прямой. (Заметим кстати: Европа насчет логики, насчет содержания своей головы в чистоплотности не мало должна быть благодарна евреям; а особенно немцы, которые до жалкого – расса deraisonnable, которой и теперь еще прежде всего надо «намылить голову».) Всюду, где сказывалось влияние евреев, они выучивали людей точнее разграничивать явления, делать более резкие выводы, писать яснее и чистоплотнее: задача их всегда состояла в том, чтобы вести народ к raison.
Еще раз происхождение ученых. – В желании поддержать свое существование выражается недостаток жизненных средств, ограничение своего главного импульса к жизни, который толкает каждого на то, чтобы увеличить свою власть и при этом часто рискует своим самосохранением и даже приносит его в жертву. И когда отдельные философы, как, напр., чахоточный Спиноза, видели и должны были видеть в так называемой потребности самосохранения решающий мотив, мы считаем подобный взгляд симптомом того, что эти люди испытывали известные затруднения в средствах к существованию. Тот факт, что наше естествознание запуталось подобным же образом со спинозовским догматом (а это особенно грубо сказалось в дарвинизме в его непонятно одностороннем учении о «борьбе за существование»), – находит себе, вероятно, объяснение в происхождении большинства наших исследователей природы: они принадлежат в этом отношении к «народу», предки их были бедными и незначительными людьми, которые прекрасно знали, что такое значит пробивать себе путь в жизни. Вокруг всего английского дарвинизма стоит удушливая атмосфера перенаселенной Англии, пропитанной запахом нужды и тесноты, в которой живут маленькие люди. Но и исследователю природы необходимо выйти из того угла, куда забилось человечество: и ведь в природе царит не нужда, а излишество, расточительность, доведенная до неразумного. Борьба за существование представляет только исключение; временное стеснение воли к жизни; великая и малая борьба повсюду происходит из-за превосходства, роста, расширения, из-за власти, сообразно с тем желанием властвовать, в котором только и проявляется жажда жизни.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: