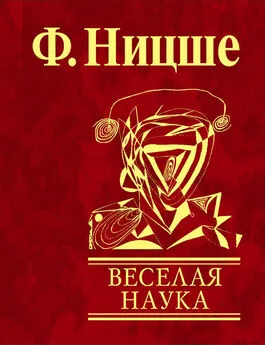Фридрих Ницше - Веселая наука
- Название:Веселая наука
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Фолио»3ae616f4-1380-11e2-86b3-b737ee03444a
- Год:2010
- Город:Харьков
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фридрих Ницше - Веселая наука краткое содержание
«Веселая наука» (1882) была одной из самых любимых книг Фридриха Ницше. Она не только несла определенный полемический заряд, но и имела целью предложить позитивную программу по преобразованию науки, философии и, в конце концов, мировоззрения. Хочется надеяться, что этот оригинальный проект будет интересен современному читателю.
Веселая наука - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
К старой проблеме: «что следует считать немецким »? – Пересчитаем все благоприобретения философской мысли, за которые мир должен благодарить нас, немцев: можно ли их, при сколько-нибудь добросовестном отношении поставить на счет всей расе? Или иначе говоря: являются ли они в то же время произведениями «немецкой души», по крайней мере, ее симптомом, в таком же смысле, в каком мы, напр., считаем проявлением и признаком «греческой души» идеоманию Платона, его чуть не безумную религию формы? Или справедливо обратное положение? Или же все эти философские системы были настолько индивидуальны, представляли такое же резкое исключение из общего духа расы, как, напр., язычество Гете? Или, как маккиавелизм Бисмарка, его так называемая «реальная политика» у немцев? Быть может, наши философы идут даже вразрез с потребностями «немецкой души?» Короче говоря, были ли немецкие философы философами -немцами? – В ответ на этот вопрос я припомню три факта. Прежде всего о несравненной проницательности Лейбница, благодаря которой он вышел победителем не только над Декартом, но и над всеми философами, появлявшимися до него, и которая подсказала ему мысль, что сознание является лишь побочным элементом представления, а «сможет считаться необходимым и существенным его атрибутом, и что явление, которое мы обозначаем словом «сознание», представляет только известное состояние нашего душевного и духовного мира (быть может, даже болезненное состояние), а само по себе вовсе не существует. Заключается ли что-либо специфически немецкое в этой мысли, которая так глубока, что не исчерпана еще вполне и до настоящего времени? Разве есть основание предполагать, что латинянину не так легко пришла на мысль представить картину в таком обратном виде? – Вспомним, во-вторых, о том чудовищном вопросе Канта, который он начертал относительно понятия «причинности», не подвергая сомнению вообще права этого понятия, как это сделал Юм, а лишь точнее отграничивая область, внутри которой это понятие вообще имеет смысл (и до сих пор пограничная борозда здесь не везде еще проведена).
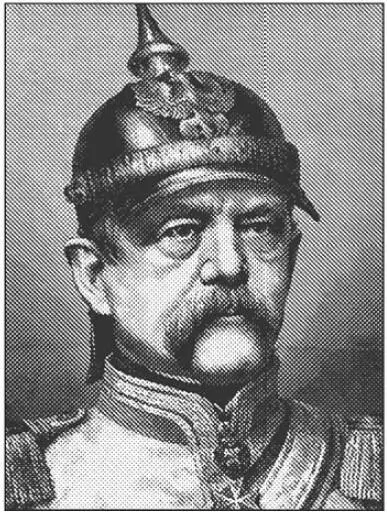
Если мы возьмем, в-третьих, удивительный прием Гегеля, который оказал давление на всю область традиционной логики при помощи своего учения о том, что все видовые понятия развиваются друг из друга: при помощи этого положения умы в Европе были подготовлены к последнему великому научному движению, дарвинизму, ибо без Гегеля не было бы и Дарвина. Есть ли что-нибудь специфическое в этой гегелевской новинке, которая впервые внесла в науку строго определенное понятие «развития»? – Да, без всякого сомнения, мы, немцы, чувствуем, что мы во всех этих трех случаях кое-что сами открыли, кое до чего сами додумались, и мы полны за это благодарности и в то же время изумления; каждое из этих трех положений является выводом нашего немецкого разума в процессе самопознания, самоиспытания, самопроникновения. «Наш внутренний мир гораздо богаче, объемистее, скрытнее», – вот что чувствуем мы вместе с Лейбницем; как немцы, мы сомневаемся вместе с Кантом в законности научного познания и вообще во всем, что может быть познано causaliter, и познаваемое, как таковое, представляет для нас уже меньшую ценность. Мы, немцы, были бы гегельянцами даже в том случае, если бы Гегеля никогда не существовало, поскольку (в противоположность всем латинянам) процессу образования, развития мы инстинктивно придаем и больший смысл и более богатое значение, чем всему «сущему», едва даже веря в справедливость понятия «бытия»; – и во всяком случае, поскольку мы не проявляем склонности приписывать нашей человеческой логике значение логики самой в себе, единственной логики (мы могли бы скорее убедить себя, что он представляет собой особый вид логики и, быть может, логику самую странную и самую неразумную). – Четвертый вопрос наш заключался бы в следующем: должен ли Шопенгауэр со своим пессимизмом, т. е. со своей проблемой ценности бытия, быть именно немцем. Не думаю. Событие, вслед за которым можно было ожидать появление этой проблемы с такой уверенностью, что астроном души мог бы высчитать для этого день и час, должно быть общеевропейским событием, в котором каждая раса имеет свою долю заслуги и чести. Наоборот, немцам, – современникам Шопенгауэра, – мир обязан тем, что эта победа атеизма была задержана самым рискованным образом на самое продолжительное время; именно per excellence заслуга в этом отношении принадлежит Гегелю, с его грандиозной попыткой убедить нас в конце концов в божественности бытия при помощи нашего шестого чувства, «исторического чувства». Шопенгауэр, как философ, был первым у нас немцем, атеистом, который открыто и упорно объявлял о своем атеизме: он имел полное основание для своей вражды к Гегелю. Положение, что в бытии нет ничего божественного, казалось ему как нечто данное, осязаемое, неоспоримое; он терял свою философскую осторожность и увлекался негодованием каждый раз, когда видел, что кто-нибудь здесь медлит и действует обиняками.
В то время, как мы, европейцы, таким образом отталкиваем от себя христианское истолкование явлений и «смысл» его считаем фальшивой монетой, встает перед нами неожиданно во всем своем ужасе шопенгауэровский вопрос: Заимеет ли бытие вообще какой-нибудь смысл ? – тот вопрос, который потребует еще две сотни лет для того, чтобы проникли во всю его глубину. В ответе Шопенгауэра на этот вопрос было, – да простит мне читатель, – что-то поспешное, юношеское… Но он поставил вопрос, и сделал это, повторим, не как немец, а как европеец. – А разве немцы, по крайней мере, в своем процессе усвоения шопенгауэровского вопроса проявили свое предрасположение и родство, свою подготовленность к его проблеме и свою потребность в ней? Тот факт, что в Германии после Шопенгауэра – впрочем уже спустя довольно много времени! – стали думать и писать о поставленной им задаче, еще не говорит в пользу такого предрасположения; напротив, из него скорее даже можно вывести заключение об их полной не способности к пессимизму, оставшемуся после Шопенгауэра: из всего видно было, что немцы не могли с ним достаточно освоиться. Здесь я совершенно не имею в виду Эдуарда Гартмана; напротив, и до сих пор я не могу избавиться от своего прежнего подозрения относительно того, что Гартман для нас оказался слишком ловким писателем, я хочу сказать, что он, быть может, как человек лукавый, не только потешался вначале над немецким пессимизмом, – что он мог в конце концов и немцам завещать такое же отношение, насколько возможно было в наш век положительных знаний одурачить даже их. Но я спрашиваю: пожалуй, следует признать немцем и Банзена, этот старый волчок, который со сладострастием всю жизнь свою вертелся вокруг реально диалектической нищеты и «личного несчастья» – разве это могло быть чисто немецким явлением? (я рекомендую его произведения, причем сам я придаю им антипессимистическую ценность, именно в виду их elegantiae psychologicae, при помощи которых, мне думается, можно оказать целебное воздействие на самое запущенное тело и самую истрепанную душу). Или нам следует считать истинными немцами таких дилетантов и старых дев, как Майнлэндер, этот слащавый апостол девственности? В крайнем случае ему следовало быть евреем (все евреи впадают в слащавый тон, когда начинают морализировать). Ни Банзен, ни Майнлэндер, ни даже Эдуард Гартман не сумели как следует взяться за вопрос о том, не является ли пессимизм Шопенгауэра, тот испуганный взор, который он вперял в мир, лишенный божественного начала, в мир, сделавшийся немым, слепым, в мир, лишенный разума и требующий от человека ответа, его честный ужас… не является, повторяю, все это не только исключением в немецкой жизни, но даже целым событием в ней. Ведь в самом деле все, что состоит в ней на первом плане, – наша храбрая политика, наша веселая привязанность к отечеству, которая все вопросы решает при помощи несложного философского принципа («Германия, Германия прежде всего»), т. е. subspecie speciei – совершенно ясно свидетельствует о противном. Нет! Немцы данного момента – далеко не пессимисты! И Шопенгауэр был пессимистом, как я уже говорил, не в качестве немца, а в качестве европейца.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: