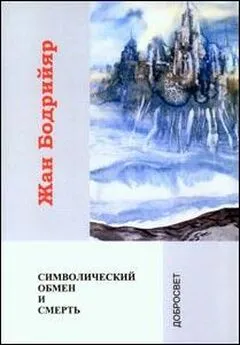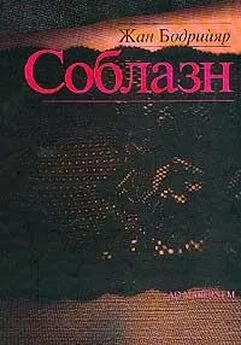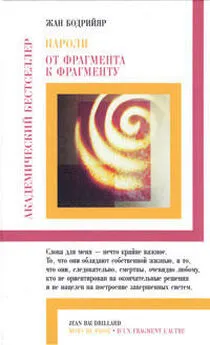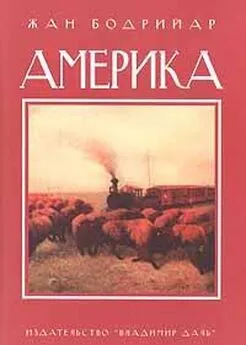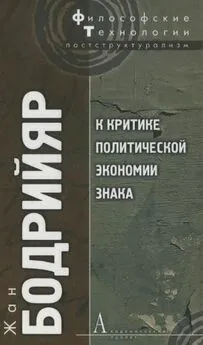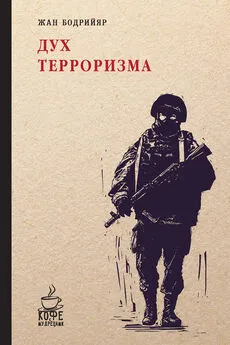Жан Бодрийяр - Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы
- Название:Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-906789-09-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жан Бодрийяр - Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы краткое содержание
В фильме «Матрица» один из его героев (Нео) читает книгу французского философа Жана Бодрийяра. С помощью этой книги Нео пытается понять, где реальность, а где матрица реального мира.
Внимание создателей этого фильма к произведениям Бодрийя-ра не случайно: его называли «гуру» постмодерна, он ввел понятие гиперреальности («матрицы») для обозначения процессов, происходящих в мире. По мнению Бодрийяра, западный мир утратил чувство реальности, он движется к Апокалипсису, когда последним бастионом становится смерть – на ней основана в наше время любая власть и экономика.
Еще один французский философ – Эмиль Мишель Сиоран – согласен с Бодрийяром в том, что европейская цивилизация переживает глубокий кризис, но пытается шутить на краю пропасти. С мрачным юмором Сиоран оценивает настоящее и будущее Европы, общества, европейского человека.
В книге, представленной вашему вниманию, собраны наиболее значительные произведения этих двух выдающихся мыслителей XX столетия.
Матрица Апокалипсиса. Последний закат Европы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мошенник Бездны
Похожий на мошенника Бездны, я на цыпочках брожу вокруг глубины, выманиваю у нее одно-другое головокружение и смываюсь.
Всякий мыслитель в начале своей карьеры независимо от собственной воли делает выбор в пользу диалектики или же в пользу плакучих ив.

Битва архангела Михаила с драконом. Из серии гравюр «Апокалипсис». Художник Альбрехт Дюре
Задолго до того как родились физика и психология, боль уже разлагала материю, а горе – душу.
Испытываешь что-то похожее на неловкость, когда пытаешься представить себе повседневную жизнь великих умов. Что, например, мог делать Сократ часа в два пополудни?
Мы так наивно верим в идеи лишь потому, что забываем, что они были изобретены млекопитающими.
Поэзия, достойная этого имени, начинается с осознания фатальности. Свободны только плохие поэты.
В здании мысли я не нашел ни одной категории, на которой могла бы отдохнуть моя голова. А вот Хаос – что за подушка!
Чтобы наказать других за то, что они более счастливы, чем мы, мы им передаем – за неимением лучшего – наши тревоги. Ибо наши боли, увы, не заразны.
Ничто не утоляет мою жажду сомнений: вот бы заиметь посох Моисея, от прикосновения которого они изливались бы даже из скалы.
Если не считать набухания моего «я», продукта всеобщего застоя, нет никакого средства от приступов меланхолии, от асфиксии в ничтожности, от ужасного ощущения, что ты являешься душой не больше, чем плевка.
Если я извлек из печали так мало идей, то это только потому, что, слишком ее любя, я не мог позволить моему уму упражняться на ней и тем самым обеднить ее.
Философская мода приходит так же, как мода гастрономическая: опровергать идею – это все равно что опровергать какой-нибудь соус.
Каждому аспекту мысли соответствует свой момент, своя суетность: сейчас вот – идея Небытия… Как далеко в прошлое кажутся ушедшими Материя, Энергия, Дух! К счастью, язык богат: каждое поколение может черпать из него и извлекать какую-нибудь вокабулу, столь же важную, как и остальные – напрасно почившие.
Мы все – несерьезные люди: мы остаемся жить после наших проблем.
Во времена, когда Дьявол процветал, страхи, испуги, опасения, паника были неприятностями, пользовавшимися сверхъестественным покровительством: все знали, от кого они исходят и кто способствует их распространению; теперь же, будучи предоставленными сами себе, они оборачиваются «внутренними драмами» или же вырождаются в психозы, в секуляризированную патологию.
Заставляя нас улыбкой приветствовать поочередно идеи тех, чьего внимания мы домогаемся, Нищета низводит наш скептицизм до уровня инструмента добычи средств к существованию.
Растение чуть-чуть поражено; животному удается саморазрушаться; что же касается человека, то у него аномалия всего, что дышит, обострена до предела.
Жизнь! Комбинация химии и оторопи… Удастся ли нам обрести уравновешенность минералов, удастся ли перескочить, пятясь назад, все, что нас от них отделяет, и уподобиться нормальному камню?
Сколько я себя помню, я только и делал, что разрушал в себе гордость от принадлежности к человеческому роду.
И я бреду на периферию этого рода, подобный боязливому чудовищу, недостаточно решительному, чтобы заявить о своей принадлежности к какой-нибудь другой стае обезьян.
Скука нивелирует загадки: это позитивистская греза…
Бывает такая врожденная тоска, которая заменяет нам и науку, и интуицию.
Столь далеко простирается смерть, так много она занимает места, что я уже даже и не знаю, где мне умереть.
Долг трезвомыслия: достичь корректного отчаяния, добиться олимпийской свирепости.
Счастье встречается столь редко, потому что его обретают после старости, в дряхлости, а эта удача выпадает на долю весьма малого количества смертных.
Наши колебания носят печать нашей честности; наша убежденность в чем-то характеризует нас как обманщиков. Нечестного мыслителя легко узнать по совокупности выдвинутых им ясных идей.
Я погрузился в Абсолют как преисполненный самомнения фат, а вышел из него как троглодит.
Цинизм крайнего одиночества – это мученичество, которое может смягчить наглость.
Смерть выдвигает проблему, заменяющую все остальные проблемы. Что можно придумать более разрушительного для философии, для наивной веры в иерархию недоумений?
Философия служит противоядием грусти. И при этом многие еще верят в глубину философии.
В этом временном мире наши аксиомы не более значимы, чем описываемые в газетах происшествия.
Тоска была обыденным явлением уже во времена пещерного человека. Нетрудно представить себе улыбку неандертальца, когда бы ему пришло в голову, что в один прекрасный день философы будут требовать патент на ее изобретение.
Ошибочность философии состоит в том, что она слишком терпима. Допускать к идеям нужно было бы только людей безвольных, оставляющих их в первозданном виде. Когда ими завладевают люди суетливые, то тихая обыденная путаница преобразовывается в трагедию.
Занятия вопросами жизни и смерти имеют то преимущество, что о том и о другом можно говорить что угодно.
Скептику тоже хотелось бы, подобно всем остальным людям, переживать из-за химер, составляющих жизнь. Но у него это не получается: он мученик здравого смысла.
Аргумент против науки: этот мир не заслуживает того, чтобы его знали.
Как можно быть философом? Как можно сметь покушаться на время, на красоту, на Бога, на все остальное? Ум пыжится, беспардонно перепрыгивает с одного на другое. Метафизика, поэзия – бесцеремонность вши…
Если я еще могу бороться с приступами депрессии, то во имя какой живучести надо мне сопротивляться наваждению, которое мне же и принадлежит, которое идет впереди меня? Когда я здоров, то я выбираю ту дорогу, которая мне нравится, тогда как, «пораженный» этим недугом, я уже ничего не решаю: за меня решает моя болезнь. У одержимых нет выбора: их наваждение сделало выбор за них, до них. Себя можно выбирать, располагая недифференцированными возможностями, тогда как определенность недуга опережает реакцию выбирающего тот или иной из путей. Спрашивать себя о собственной свободе или несвободе – вздор в глазах человека, увлекаемого калориями своих психозов. Для него превозносить свободу – значит обнаруживать вопиющее здоровье. Свобода? Софизм не знакомых с немощами людей.
Предрасположенный к тоске человек, не ограничиваясь реальными страданиями, обременяет себя еще и воображаемыми; для него ирреальность реальна и должна существовать; а то откуда же ему черпать необходимые его натуре переживания?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: