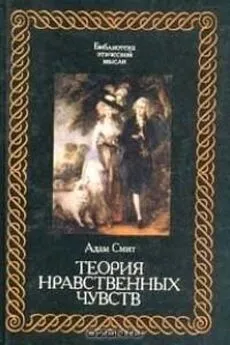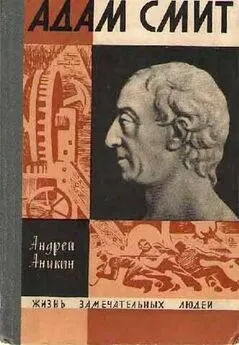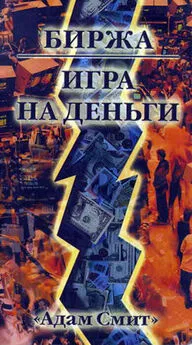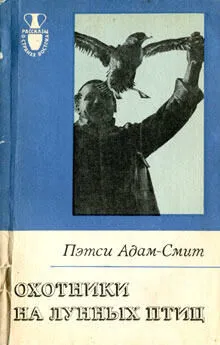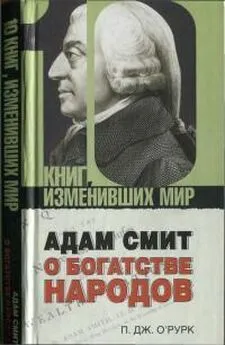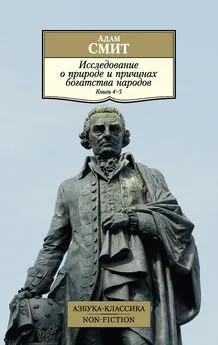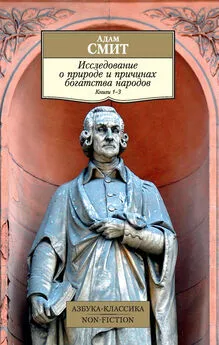Адам Смит - Теория нравственных чувств
- Название:Теория нравственных чувств
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Республика
- Год:1997
- Город:Москва
- ISBN:5-250-02564-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Адам Смит - Теория нравственных чувств краткое содержание
Смит утверждает, что причина устремленности людей к богатству, причина честолюбия состоит не в том, что люди таким образом пытаются достичь материального благополучия, а в том, чтобы отличиться, обратить на себя внимание, вызвать одобрение, похвалу, сочувствие или получить сопровождающие их выводы. Основной целью человека, по мнению Смита. является тщеславие, а не благосостояние или удовольствие.Богатство выдвигает человека на первый план, превращая в центр всеобщего внимания. Бедность означает безвестность и забвение. Люди сопереживают радостям государей и богачей, считая, что их жизнь есть совершеннейшее счастье. Существование таких людей является необходимостью, так как они являются воплощение идеалов обычных людей. Отсюда происходит сопереживание и сочувствие ко всем их радостям и заботам
Теория нравственных чувств - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Одобрение добровольной смерти, на которой стоики, быть может, настаивали более, чем прочие группы античных философов, было тем не менее свойственно всем им, даже кротким и беззаботным эпикурейцам. В эпоху, когда процветали основатели главных школ (sects) античной философии, во времена Пелопонесской войны и несколько лет спустя после ее окончания все республики Греции раздирались внутренней междоусобицей и беспощадными внешними войнами, в которых каждый старался не только одолеть своих врагов, но и окончательно истребить их, или, что было не менее жестоко, привести их в самое унизительное состояние, в состояние рабства, чтобы можно было продать женщин и детей, как продают стадо на рынке тому, кто больше даст за них. Вследствие небольших размеров этих республик каждому человеку предстояла возможность испытать те несчастья, которым он подвергал или которые он готовил своим соседям. Среди всеобщего беспорядка не только полнейшая невинность, но и блистательные общественные заслуги не давали человеку уверенности, что он огражден от самых жестоких и унизительных наказаний. Если он сам становился военнопленным или если город, гражданином которого он был, попадал в руки неприятелей, то он подвергался самым жестоким оскорблениям и обидам.
Вследствие этого каждый естественно или, скорее, по необходимости приучал свое воображение к несчастьям, которым он мог подвергнуться. Нельзя себе представить, чтобы матросу не приходилось часто думать о бурях, о кораблекрушениях, о безднах морских, о том, как он должен себя чувствовать или действовать среди окружающих его опасностей. Таким же точно образом греческие патриоты не могли не приучить себя к мысли о различных бедствиях, которыми почти непрерывно грозило им их положение. Подобно тому как американский дикарь складывает свою песнь смерти и заранее решает, как он должен вести себя, если попадет в руки врагов и после продолжительных пыток, оскорблений и унижений будет убит, таким же точно образом и греческий патриот мысленно всегда был готов перенести изгнание, рабство или казнь. Но философы всех школ весьма точно представляли добродетель, а именно, как поведение справедливое, благоразумное, воздержанное и мужественное, как путь, не только верно, но и неизбежно ведущий к счастью даже в той беспокойной ситуации в обществе, которая нередко подвергала людей несчастьям. Поэтому философы-стоики старались доказать, что счастье находится в совершенной независимости от случая, а философы-академики и перипатетики – что оно мало зависит от него. По мнению первых, благоразумное и безукоризненное поведение обеспечивало успех почти всех предприятий, а по мнению вторых, оно утешало в случае неудачи. Они полагали, что добродетельный человек должен пользоваться полнейшим одобрением своей совести и быть в мире с самим собой, несмотря на крайне шаткое внешнее свое положение. Они думали, что он найдет опору и утешение в уверенности, что снискал полное уважение всякого беспристрастного и просвещенного наблюдателя, что он заслужил его восхищение своей добродетелью и его внимание своим несчастьем.
Те же философы стремились показать, что самые большие бедствия переносятся нами легче, чем это воображают. Они старались указать утешения, остающиеся человеку, когда его постигнет бедность, когда он будет приговорен к изгнанию, когда он подвергнется несправедливости со стороны народа, когда он потеряет зрение или слух, когда впадет в дряхлость или почувствует приближение смерти. Они указывали, какие побуждения могут заставить его сохранить присутствие духа среди жестоких мук и пыток, болезней, страданий, причиняемых потерей детей, родных, друзей и прочего. Немногие отрывки, сохранившиеся от произведений античных философов по этим вопросам, представляют, быть может, самое интересное и самое поучительное, что оставлено нам древностью. Одухотворенный и мужественный характер их учения замечательно контрастирует с жалобным и плаксивым тоном некоторых новейших писателей. Между тем как античные философы стремились таким образом предложить все, что могло бы, по выражению Мильтона 94 94 Мильтон Дж. Потеренный Рай. II, 568–569.
, покрыть тройной броней терпения наше сердце, они в то же самое время прежде всего старались убедить своих учеников, что в смерти нет никакого действительного зла и что если положение их когда-либо станет невыносимым, то лекарство всегда находится у них под рукой; что так как дверь из жизни постоянно открыта, то они смело могут выйти через нее, когда им заблагорассудится. Если за пределами этого мира нет другой жизни, то смерть не может быть злом, а если существует за этой жизнью другой мир, то в нем должны находиться боги, а справедливому человеку нечего бояться жить под их покровительством. Словом, философы эти складывали, так сказать, песнь смерти, которой при случае могли воспользоваться греческие патриоты и герои, а среди различных философских школ именно стоики, следует, я думаю, признать, придали этой песне самый высокий и героический характер.
Тем не менее самоубийство, по-видимому, не было широко распространено среди греков. За исключением Клеомена 95 95 Самоубийство спартанского царя Клеомена III описано в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха (Клеомен. 37).
, я не могу припомнить ни одного знаменитого греческого патриота или героя, который бы сам убил себя. Смерть Аристодема 96 96 В тексте Смита ошибочно указан Аристомен (сер. 7 в. до н.э.), другой герой мессенцев в борьбе против Спарты, умерший естественной смертью.
, как и смерть самого Аякса, случилась в доисторическую эпоху. То, что рассказывают о смерти Фемистокла 97 97 Фукидид в «Истории» (I. 138) допускает, что в изгнании Феми-стокл мог покончить жизнь самоубийством.
, хотя и случившейся в эпоху действительно историческую, отличается баснословным характером. Из всех греков, жизнь которых описана Плутархом, кажется, один Клеомен погиб добровольной смертью. Ферамен, Сократ и Фокион, которых, разумеется, нельзя упрекнуть в недостатке мужества, согласились идти в тюрьму и терпеливо перенесли смерть, к которой были приговорены несправедливостью своих сограждан. Храбрый Евмен не оказал сопротивления, когда выдан был солдатами своему врагу Антигону и умер от голода, не прибегая к другому насильственному средству 98 98 В «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха (Евмен. 17–19) рассказывается, что Евмен в конце концов был убит.
. Великодушный Филопемен перенес свое несчастье, когда, попав в плен мессенцам, был заключен в башне, в которой, как полагают, он был тайно отравлен 99 99 Этот случай описан в «Сравнительных жизнеописаниях» Плутарха (Филопемен. 18–20).
. Многие философы, говорят, умерли добровольной смертью, но жизнеописания их пересыпаны такими вымыслами, что нельзя поверить ни одной басне, из которых обыкновенно они состоят. О смерти Зенона-стоика существует три различных рассказа. В первом рассказе говорится, что в девяностовосьмилетнем возрасте, будучи совершенно здоровым, выходя из своей школы, он споткнулся и упал, вывихнув себе палец; тогда, ударив ногою о землю, он произнес, как Ниоба Еврипида: «Я иду, зачем ты зовешь меня?» – и немедленно повесился 100 100 «Умер он так: уходя с занятий, он споткнулся и сломал себе палец; тут же, постучав рукой оземь, он сказал строчку из «Ниобы»: «Иду, иду я: зачем зовешь?» – и умер на месте, задержав дыхание» (Диоген Лаэртский. Кн. VII. 28–29 // Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1979. С. 278). «Ниоба» – утерянное песнопение поэта Тимофея, а не Еврипида.
. Но в таком преклонном возрасте ему следовало бы обладать большим терпением. Согласно второму рассказу, он избрал, по-видимому, голодную смерть по самой ничтожной причине 101 101 Диоген Лаэртский. Кн. VII. 31.
. По третьему – он умер естественной смертью, достигнув семидесятидвухлетнего возраста. Последний рассказ есть самый вероятный, ибо он опирается на свидетельства современников, которые могли лучше знать эти обстоятельства, в особенности Персея, сначала раба, а потом друга и ученика философа 102 102 Там же. Кн. VII. 28.
. Первый рассказ дошел до нас от Аполлония Тирского, жившего во времена Августа, два или три века спустя после смерти Зенона. Я не знаю, от кого идет второй рассказ. Но Аполлоний, сам бывший стоиком, вероятно, считал почетной для основателя школы, так часто говорившего о добровольной смерти, смерть от собственной руки. Хотя об ученых людях и философах чаще говорят после их смерти, чем о великих государях и государственных людях, тем не менее жизнь их обыкновенно до такой степени темна и незначительна, что современные им историки редко собирают о ней какие-нибудь подробности. Историки последующего времени, ради удовлетворения всеобщего любопытства, но не имея никаких достоверных данных в подтверждение или в опровержение своих рассказов, прибегают к помощи своего воображения, почти всегда примешивая к ним много сверхъестественного. Последние рассказы, хотя и ни на что не опирающиеся, берут, по-видимому, верх над правдоподобными свидетельствами, опирающимися на самые лучшие источники. Диоген Лаэрций отдает явное предпочтение рассказу о смерти Зенона, оставленному нам Аполлонием, а Лукиан и Лактанций, кажется, больше верили рассказу о смерти философа в глубокой старости и насильственным образом.
Интервал:
Закладка: