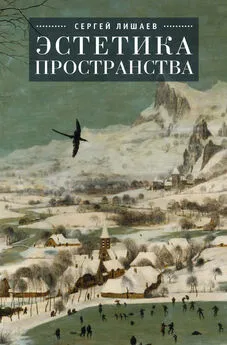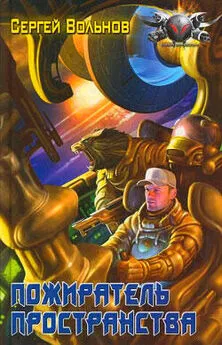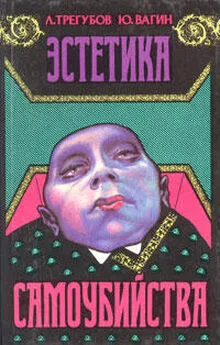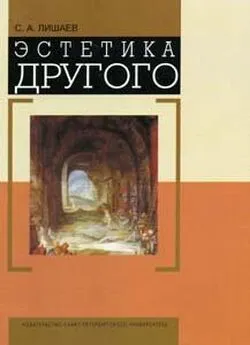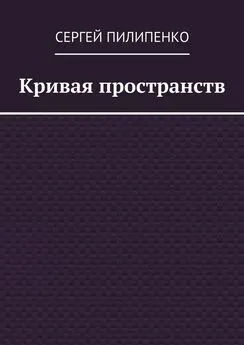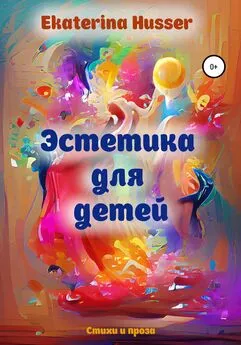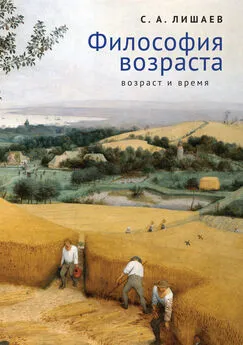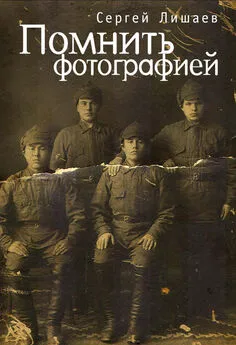Сергей Лишаев - Эстетика пространства
- Название:Эстетика пространства
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Лишаев - Эстетика пространства краткое содержание
Эстетика пространства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И в Древней Руси, и в России, где всегда было много никем незанятого пространства, смысловое различие между свободой и волей живо и сегодня. На Русской равнине всегда была возможность уйти из столичного города в провинцию (в имперской России из Петербурга в барски-вольную, фрондирующую Москву, в советской – из Москвы в Ленинград), из города – в деревню, из деревни – в дикие (вольные) степи Приазовья и Причерноморья, в северные леса, за Уральские горы, в великую пустыню Сибири. Одни использовали эту возможность на деле, другие относились к ней как к запасному (последнему) выходу из затруднительной ситуации на воображаемом уровне. Те, кто находили в себе достаточно смелости для того, чтобы жить «вне закона», на необжитых землях, уходили за границы государства, на простор, на волю. За несколько столетий русская история выковала из таких неробкого десятка крестьян военно-служилое сословие – казачество [151] . «Казачья вольница» – явление очень русское, и на ассоциативно-образном уровне казаки, казачество ассоциируются в нашем сознании с простором. Степь, простор, сабля, конь. Такой визуальный ряд сам собой встает перед внутренним взором при упоминании о «казачестве».
Тоска по воле сохраняется у русских людей и сегодня. И в этом можно видеть одну из причин любви русских к простору. Если и можно где-то «почувствовать волю» – так это там, на просторе. Если горизонт закрыт, то через какое-то время нам становится «не по себе». Мы жалуемся на то, что нам не хватает пространства, что мы «задыхаемся» в каменном мешке. Встреча с открытым горизонтом сопровождается чувством удовольствия. Мы выбрались «на волю». Созерцание, отсылающее к возможности ничем не ограниченного движения в любую сторону (куда угодно), одаряет чувством покоя от соприкосновения с «непочатой» полнотой возможностей. В каком бы направлении перед собой мы не переводили взгляд, у нас остается возможность двигаться дальше, смещаясь по линии горизонта. Простор чистого поля не требует немедленных действий и не предполагает (не дает оснований) для остановки внимания на одном из множества вариантов движения (взгляда и, потенциально, тела), так что видимая ширь оказывается именно таким образом пространства, в который может «вместиться» не знающая границ воля.
Как сила-способность достигать-получать осознанно желаемое воля дистанцирована от желания (от желающего состояния ); человек сознает свою волю и может, в соответствии с религиозными, моральными, правовыми и др. идеями (принципами), направить ее на ограничение-подавление желания, если оно оценивается им как «беззаконное, «нечестивое», «порочное» и т. д. Стало быть, воля отлична от предметно-ориентированного желания. Как сила-способность осуществить желаемое или противостоять желанию воля отделена от него (всегда какого-то, определенного). Воля, взятая в своей чистоте, в своем начале, – это ни-что или, иначе, Другое как чистая возможность. Воля указывает на экзистенциально-онтологическое основание свободы (Ничто), на то, без чего свободы как воли «в границах разума», как воли «добровольно нормированной», руководствующейся принципами, не было бы, а она, мы знаем это по опыту, существует. Уместно вспомнить Николая Бердяева, настаивавшего на необходимости различать «первую», иррациональную свободу, коренящуюся в Ничто, и свободу «вторую», «рациональную». Очевидно, что первая свобода – это и есть воля , выступающая естественным основанием второй, «окультуренной» и «введенной в рамки» свободы [152] . Если исходить из возможностей, предоставляемых русским языком, то, пожалуй, уместнее говорить не об иррациональной свободе, а о воле. А постольку, поскольку воля добро-вольно подчиняет себя принципам (религиозным, моральным, правовым) и руководствуется ими, то уместнее говорить о свободе, понимая под последней волю, поставившую себя под контроль принципов.
У обуздавшей себя воли (у свободы) имеется собственный пространственный эквивалент – пространство улиц и площадей, интерьеров жилищ и общественных зданий, производственных и конторских помещений. Свободе в эстетическом плане соответствует просторное (и, соответственно, эстетика просторного). Когда мы имеем дело с простором (не с просторным), то опыт чистого пространства оказывается одновременно и опытом чистой воли («иррациональной свободы») как возможности и способности (сила, мочь-мощь) само-определения, произвольного расположения в пространстве. Воля в созерцании простора – это не выбор среди нескольких путей-дорог «правильной» дороги (витязь на распутье), а возможность отделить путь от беспутья «первым шагом». Куда пойду, там и пройдет моя дорога.
Простор актуализирует Другое, обеспечивающее способность к само-ограничению, само-организации, к свободе. Другое-как-воля не есть порядок. Это возможность порядка (или беспорядка).
Еще не реализованная (и тем самым еще не закрывшаяся, не о-предел-ившаяся) возможность – вот «что» мы чувствуем, когда захвачены простором, вовлечены в него, увлечены им. Мы чувствуем, что мы можем мочь. Любое ограничение возможности сменить место вопреки желанию человека воспринимается как неволя. Вынужденная привязка к одному месту (к нескольким определенным местам), перемещение по одному и тому же маршруту (обязательства, налагаемые на человека родственными связями, обязанности, связанные с работой, квартира с типовым набором комнат, город, разделенный на улицы и кварталы) – это порядок, необходимый, неизбежный и часто благодетельный. Но этот порядок может и угнетать, как угнетают человека стесненность дыхания, теснота, вынужденное повторение одного и того же (работа, быт, ритуал общественных приличий). Когда человек встречается с открытостью простора, он освобождается (эстетически) от ограничений, накладываемых на него социумом и культурой, размежевывающим жизненное пространство на улицы, площади, дома, комнаты (за которыми стоят семейные, служебные, общественные обязанности-ограничения).
Таким образом, воля как «можество» делает человека другим самому себе, выводит его из замкнутости в привычном, давно сложившемся «миропорядке» повседневности. Когда мы захвачены простором, мы чувствуем волю. Влечение к простору – это влечение к тому, в чем мы утверждаемся как существа, способные быть другими по отношению к самим себе, к своей «природе» и к вещам, нас окружающим (иметь о них представление, сознавать их, принимать их или отвергать). Простор потому и влечет, что мы, созерцая его, вступаем в общение с тем началом, которое делает нас существами с открытыми , а не с жестко (морфологически) предопределенными, как у животных, желаниями. Если вне простора как эстетического расположения мы просто хотим «то» или «это», то влечение к простору обнаруживает то, «что» делает желание человеческим, то есть подконтрольным ему как само-определяющемуся сущему (субъекту, «я»), способному нести ответственность за свои деяния, кто отказывается от «алиби в бытии» (если говорить в терминах М. Бахтина).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: