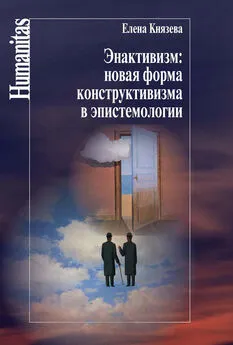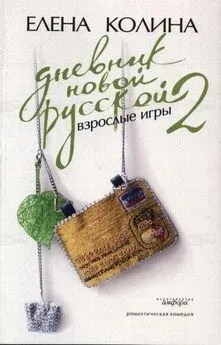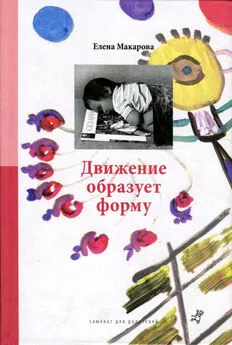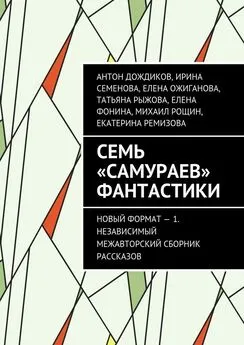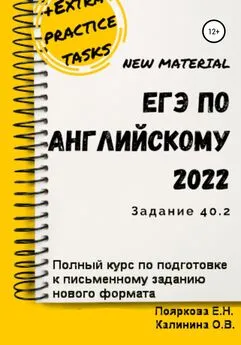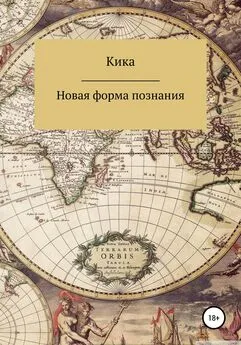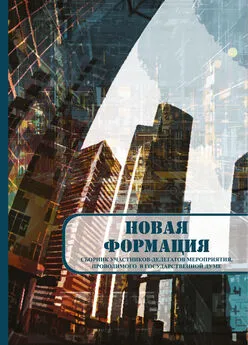Елена Князева - Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии
- Название:Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ЦГИ»2598f116-7d73-11e5-a499-0025905a088e
- Год:2014
- Город:Москва, Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98712-192-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Князева - Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии краткое содержание
В монографии рассматривается энактивизм как радикальный концептуальный поворот в неклассической эпистемологии и когнитивной науке. Сознание представляется как активное и интерактивное, отелесненное и ситуационное, его когнитивная активность совершается посредством вдействования в окружающую и познаваемую среду, т. е. энактивирования среды. Прослеживаются историко-философские предпосылки возникновения этих представлений в учениях Дж. Беркли, Д. Юма, И. Канта, А. Бергсона, а также современный вклад в развитие энактивизма Франсиско Варелы, Эвана Томпсона, Алва Ноэ и др. Энактивизм рассматривается как новая форма конструктивизма в эпистемологии, в концептуальных рамках которого получают нетрадиционные решения проблемы сознания и тела, субъекта и объекта познания, связи познания с действием.
Книга адресована специалистам по эпистемологии и философии науки, а также всем интересующимся современными трендами развития философии.
Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Создание экологической ниши организмом в живой природе означает создание сложности, которая порой существует дольше, чем время жизни самого организма. Например, длительное время существуют плотины, которые строят бобры. Изучая особенности конструирования ниш в живой природе, Э. Кларк отмечает, что «способ активности, связанной с построением ниш, ведет к образованию новых циклов обратной связи. В стандартных случаях такие циклы существуют на протяжении значительных периодов эволюционного времени. Животные изменяют мир таким образом, что они изменяют селективные ландшафты для биологической эволюции» [45]. Построение когнитивной ниши определяется «как процесс, в котором строят физические структуры, которые трансформируют пространство проблем таким образом, что это помогает (а иногда мешает) им решать целевые задачи. Эти физические структуры соединяются с соответствующей культурно передаваемой практикой, чтобы усовершествовать решение проблем, а в наиболее драматических случаях сделать возможным возникновение новых форм мышления и разумного действия» [46].
Развитие культуры, науки и технологии, вероятно, также связано с образованием ниш. Процессы коэволюции сложных структур, развивающихся в разном темпе и имеющих разную степень сложности, приводят к образованию коэволюционных (экологических) ниш. Существуют законы образования экологических ниш, возникновения определенной пространственной конфигурации друг к другу подогнанных ниш. С. Кауфман пишет в связи с этим о неких принципах «сборки сложных образований посредством процесса поиска, а также принципах автокаталитического создания ниш, инициирующих инновации, которые в свою очередь создают дальнейшие ниши» [47].
Имеет смысл сопоставить понятие экологической ниши с понятием жизненного пространства, используемым, в частности, К. Левином. Пространство жизни – это окружающий психологический мир в том виде, как он существует для индивида. Его граничная зона – это та часть процессов психологического и социального мира, которая в определенное время оказывает влияние на жизненное пространство. Понятие жизненного пространства, несомненно, включает в себя и адаптационный смысл: эту часть социального пространства освоил человек и к ней приспособился. Границы пространства свободных действий индивида могут расширяться в результате его взросления, образования и повышения собственной активности. Границы экологической ниши могут, по меньшей мере, трансформироваться.
В культуре и науке, так же как и в мире живой природы, возникают некие коэволюционные ландшафты, т. е. сложные конфигурации сосуществующих ниш. Трансформация коэволюционных ландшафтов определяется непрерывным созданием новых ниш и, следовательно, перестройкой наличной структуры ниш.
Каждый вторгающийся в мир науки ученый испытывает парадигмальное инерционное давление, давление уже заполненных «когнитивных ниш», причем заполненных наличными, далеко не совершенными знаниями и культурой мышления. Встраивание нового знания зависит от наличной структуры «когнитивных ниш». При достаточной инновационной ценности этого знания и достаточной решимости, «пробивной силе» его носителя это новое знание может быть принято научным сообществом. В результате этого может происходить реконструкция структуры пространства, застроенного «когнитивными нишами». Могут деформироваться существовавшие ранее ниши.
Всякое исследовательское сознание и производимое им знание должны попасть в определенную локальную среду или создать среду, соответствующую их устремлениям. Только тогда это сознание будет успешно развиваться. Всякий элемент знания должен находиться на своем месте, в области своего территориального оптимума, иначе будет ощущаться «диспозиционная неустроенность», или «давление места». Эти представления весьма близки к теории движения, развитой Аристотелем.
Абсолютно податливых и благоприятных сред для реализации творчества не существует. Чтобы «встроиться» в научное сообщество и занять подобающую ему «когнитивную нишу», ученому надлежит резонансно возбудить, угадать скрытые тенденции развития научного знания, созревшие в недрах науки, но еще не вербализованные в виде моделей и теорий. Если же он не попадает точно в резонанс, что обычно и имеет место, то он вынужден постепенно, асимптотически, приближаться к выведению на поверхность этих неявных тенденций развития знания. А здесь уже играют роль время, терпение и упорство ученого, его направленные усилия в воплощении своих идей.
Итак, встает вопрос об оптимально организованных коэволюционных ландшафтах и благоприятных для субъекта конфигурациях когнитивных ниш. По терминологии К. Левина, это вопрос о жизненном пространстве индивида и его граничной зоне. К. Левин намечал в качестве одной из задач дальнейшего психологического исследования именно изучение граничных зон жизненного пространства (die «Grenzzone» des Lebensraums). Он предложил называть эту область исследования психологической экологией [48].
Коэволюционный когнитивный ландшафт представляет собой сложноорганизованную систему, разветвленную сеть взаимно «подогнанных», адаптированных когнитивных ниш. Природа такого рода сложных адаптивных образований такова, что они существуют «на краю хаоса» («on the edge of chaos»). Существует тонкий баланс между сложностью этой системы и ее устойчивостью, возможностью самоподдержания этой сложности. Один шаг к усовершенствованию этой организации, к дальнейшему увеличению сложности, т. е., казалось бы, в лучшую сторону, может разрушить всю систему.
Изучение этого явления, названного феноменом самоорганизованной критичности, проводится в Институте исследования сложного в Санта Фе (США). По словам Стюарта Кауфмана, «сама природа коэволюции состоит в достижении края хаоса, некоей сети, построенной на компромиссах, где каждый вид процветает насколько это возможно, но где никто не может быть уверен, не инициирует ли его лучший следующий шаг течение небольшой струйкой или оползень. В этом ненадежном мире лавины, малые и большие, безжалостно сметают систему» [49].
Сложная организация устроена «хитроумно», но она чрезвычайно хрупка. Она лишь метастабильно устойчива, существует как «на лезвии бритвы». Причем чем сложнее система, тем все более неустойчивой она становится. Незначительные отклонения от ее гомеостатического равновесия могут вызвать катастрофические последствия. Чуть «тронь» эту систему, даже, казалось бы, с благими намерениями, пытаясь улучшить ее организацию, и всё может развалиться. Едва заметные сдвиги в сторону ее усовершенствования могут стать последней каплей, вырывающей ее из подвижного равновесия и вызывающей лавину, сметающую всю организацию.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: