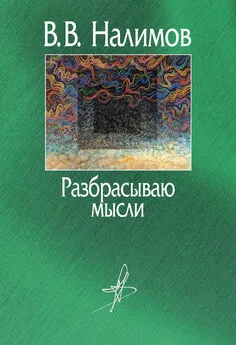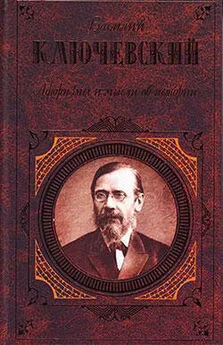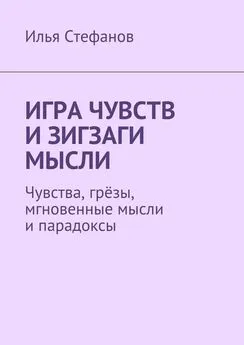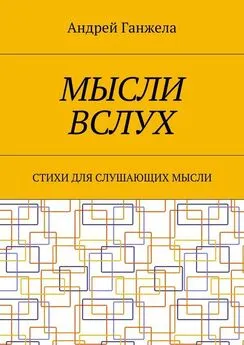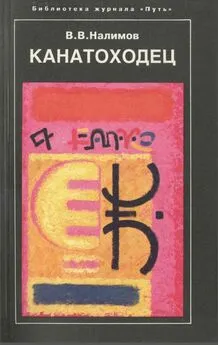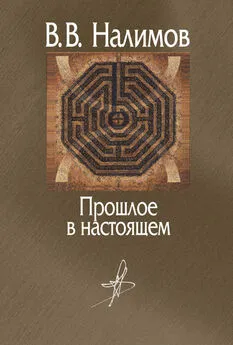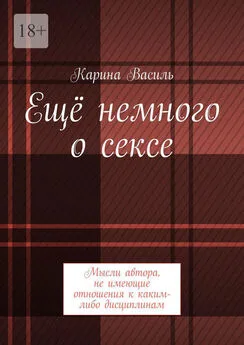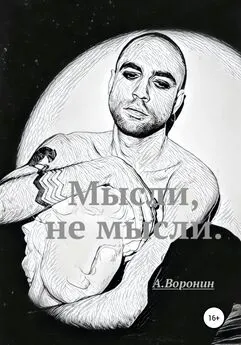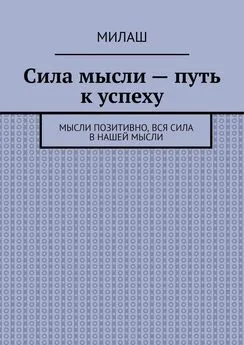Василий Налимов - Разбрасываю мысли
- Название:Разбрасываю мысли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ЦГИ»2598f116-7d73-11e5-a499-0025905a088e
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98712-521-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Василий Налимов - Разбрасываю мысли краткое содержание
Автор приглашает читателя к размышлениям на философские темы, касающиеся сущности мира и человека, к творческому поиску в пространстве смыслов, устремленных к потенциальному богатству Будущего. Основные темы книги: смысловая природа личности, вероятностная модель сознания, биологический эволюционизм как творческий процесс, мир как геометрия и мера, философское запредельное – проблема личностной теологии.
Методологическое умение автора позволяет ему соединять области рационального и нерационального, открывая новые перспективы и методы постановки вопросов. Он ведет читателя по разным уровням и лабиринтам реальности, непрерывно расширяя «географию» этого интеллектуального путешествия, направленного на то, чтобы «постичь Вселенной внутреннюю связь».
Разбрасываю мысли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Благоприятна стойкость женщины!
III. Шестерка третья.
Созерцай продвижение и отступление нашей жизни.
– …
IV. Шестерка четвертая.
Созерцай блеск страны.
– Благоприятно тому, чтобы быть приятным, как гость у царя.
V. Девятка пятая.
Созерцай нашу жизнь.
– Благородному человеку хулы не будет !
VI. Наверху девятка.
Созерцай их (других людей) жизнь!
– Благородному человеку хулы не будет.
Нам известно и еще одно проявление троичности – система АВО , которой обозначены четыре основные группы крови: О, А, В и АВ . Хорошо известно, что принадлежность к той или иной группе во многом определяет медикобиологический облик человека. Здесь возникает множество статистических проблем генетики человека: изучение резко выраженной вариабельности в распределении групп крови всех систем по различным популяциям мира; распределение АВО -системы среди популяции здоровых людей и групп лиц, больных широко распространенными и зловещими заболеваниями, такими как оспа, туберкулез, проказа, тиф и паратиф, рак и пр. Здесь получены интересные паттерны, хотя многое еще носит дискуссионный характер [Mourant, 1977]. Проблема групп крови – это, может быть, одна из самых острых биомедицинских проблем, замкнутых на число.
Итак, мы видим, что параметр Численко, выражаемый через число три , оказывается не одиноким в биологии.
И все же мы должны констатировать, что в плане общебиологическом изучение роли числа в мире живого практически еще не началось. Мы не встречали ни одной публикации, в которой были бы собраны вместе и подвергнуты анализу с единых позиций все те числовые параметры, с которыми столкнулись биологи [72]. Не было сделано ничего похожего на то, что сделали физики в осмыслении физических констант.
И если какие-то высказывания о биологических числовых параметрах уместны, при том ограниченном знании предмета, которым мы владеем, то они будут сводиться к следующему: биологические числовые постоянные не играют роли фундаментальных констант. Они не входят (в отличие от физических постоянных) в фундаментальные уравнения, хотя бы уже потому, что таких уравнений нет в биологии. (Естественно, что здесь мы не рассматриваем уравнения биофизики, которые в биологии носят частный, но отнюдь не фундаментальный характер.) И может быть, самих фундаментальных уравнений именно потому и нет, что нет фундаментальных констант [73]. Мир живого не обладает той жесткостью, которой обладает мир неживого. Потому в мире живого не нужны фундаментальные константы – им нечего охранять. В этом мире все находится в подвижном, плавающем равновесии, сочетающем устойчивость с изменчивостью [74].
И если мир живого – это текст, то совсем не просто найти такой язык науки, на который этот текст мог бы быть легко переведен. Язык науки сегодняшнего дня несет в себе ту жесткость, которую ему придала физика. И в частности, работа Л.Л. Численко подвергалась критическим нападкам со стороны некоторых биологов именно за то, что, желая метрически охватить почти весь спектр живого, он попытался самому языку измерений придать ту мягкость, которая, может быть, уже граничит с произвольностью. Но как можно было поступать иначе, не отказавшись от поставленной задачи?
Подход Л.Л. Численко интересно сопоставить с подходом Р. Питерза [Peters, 1983], в котором масса тела животных используется как критерий для раскрытия подобия в мире живого. (Подробнее о работе Р. Питерза см. далее: гл. III, 4.13.) Оба подхода можно рассматривать как взаимодополняющие. Но на этой теме, развитие которой можно предвидеть в будущем, мы здесь останавливаться не можем.
III
Глобальный эволюционизм как раскрытие семантики Мира через вероятностно заданную меру
1. Введение
И все же число играет в мире живого решающую роль – оно, как это нам представляется, выступает в иной, обобщенной форме: в виде вероятностной меры . Именно на языке вероятностных представлений можно рассмотреть эволюционизм – основную концепцию науки о живом, – не попадая в многочисленные логические ловушки.
В плане философском трудности, связанные с пониманием самой идеи эволюционизма, хорошо известны. Вот, скажем, как это описывает И. Томлин [Tomlin, 1977]:
Истина состоит в том, что эволюция оказалась гипотезой, которая утвердилась, превратившись в догму раньше, чем была тщательно проверена. Это породило целый ряд ложных утверждений. Легко сказать, что идея изменчивости или трансформаций в природе сменила идею неизменности; но о какой изменчивости идет речь? Если виды больше не рассматриваются как неизменные, они, тем не менее, сохраняют какую-то степень стабильности, иначе их нельзя было бы называть видами. Эволюция есть консервация в той же мере, что и трансформация. И если человеческий вид обрел уникальное качество, благодаря которому эволюционный процесс развивается в направлении духовности и сознания, то это еще не доказывает, что эволюция «привела» к человеку. Если бы не случайное и необъяснимое появление человека, она бы не привела никуда. И это не просто ошеломляет, это выводит человека за пределы эволюционного процесса в большей степени, чем сохраняет внутри него (с. 228).
Скептически настроенный читатель здесь мог бы еще добавить: человека необходимо поставить вне эволюционного процесса, ибо иначе надо было бы допустить, что эволюция в конечном счете направлена на то, чтобы уничтожить все, что было создано в процессе развития жизни, и более того – на то, чтобы стало невозможным (в силу истощения Земли) возникновение повторного цикла высокоразвитой жизни. Эволюционизм, если его рассматривать как процесс, направляемый некими жесткими закономерностями (лишь слегка смягчаемыми случайностью мутаций), предстает перед нами как некое проявление демонического начала, – мы невольно здесь возвращаемся к мифологии гностицизма [75]. Не придется ли сторонникам традиционно понимаемого эволюционизма, следуя логике гностицизма, заявить, что сама идея эволюционизма должна быть отчуждена от реального эволюционного процесса?
Такого рода ловушки можно преодолеть, как это нам представляется, только обратившись к вероятностному мышлению.
В плане общефилософском сейчас, по-видимому, представляет интерес попытка построения модели глобального эволюционизма [Карпинская, Ушаков, 1981] [76], инвариантного ко всем особенностям отдельно взятых конкретных эволюционных процессов. Такая модель должна охватить весь спектр эволюционных процессов. Можно надеяться, что попытка модельного раскрытия идеи эволюционизма, проводимого на столь абстрактном уровне, позволит вскрыть то общее, что имплицитно может оказаться заложенным в самой идее эволюционизма, если эту идею погрузить в ту, свойственную современному миропониманию неопределенность , которая придаст ей вероятностное звучание.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: