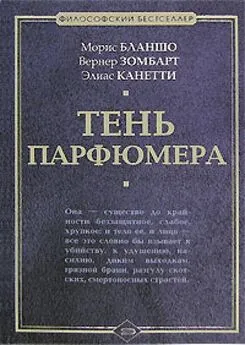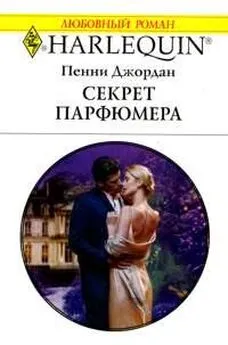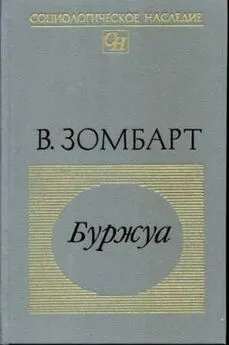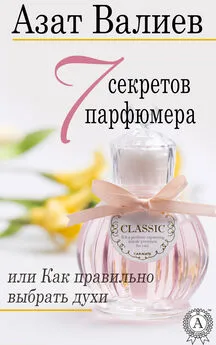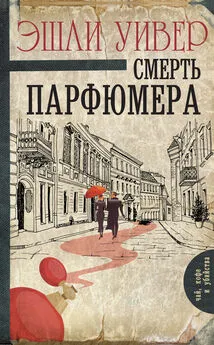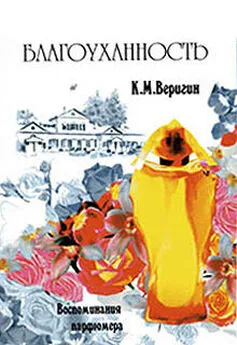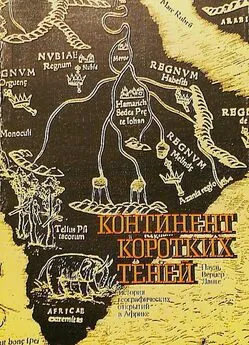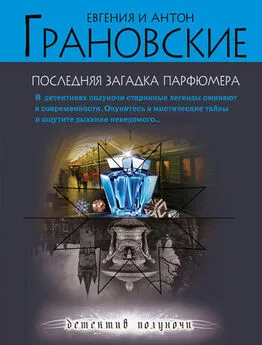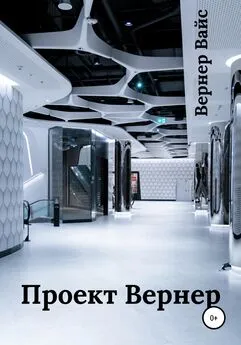Вернер Зомбарт - Тень парфюмера
- Название:Тень парфюмера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9265-0353-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вернер Зомбарт - Тень парфюмера краткое содержание
Поводом к изданию данного сборника послужил необыкновенный успех, который выпал на долю книги П. Зюскинда «Парфюмер» и на фильм, снятый по ее мотивам. Собственно, жуткая история маньяка-изобретателя достаточно широко распространена в литературе «ужасов» и фильмах соответствующего направления, так что можно было бы не подводить философскую базу под очередной триллер-бестселлер, но книга Зюскинда все же содержит ряд вопросов, требующих осмысления. В чем причина феноменального успеха «Парфюмера», почему он понравился миллионам читателей и зрителей? Какие тайны человеческой души он отразил, какие стороны общественной жизни затронул?
Ответы на эти вопросы можно найти в трудах философов М. Бланшо, В.Зомбарта, Э.Канетти, написанных, как ни странно, задолго до появления произведения П. Зюскинда.
Тень парфюмера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как отказница истории литература ведет игру на другой доске. Работая для создания мира, она не полностью присутствует в нем потому, что в силу недостатка в ней сущего (то есть рациональной реальности) она принадлежит существованию, еще не ставшему человеческим. Да, она сознает, что ей свойственно скольжение между быть или не быть, между присутствием и отсутствием, между реальным и нереальным. Что такое произведение? – Реальные слова и придуманная история; мир, в котором все происходящее заимствовано у реальности, причем сам он недостижим; персонажи, выдающие себя за живых, тогда как мы знаем, что их жизнь состоит в том, чтобы не жить (оставаться выдумкой), – получается, что произведение – это чистое отсутствие? Но вот ведь книга, которой мы касаемся, слова, которые читаем, не в состоянии что-либо изменить; что же это – небытие идеи, того, что существует только став понятым? Но вымысел не понимают, а переживают через слова, в которых он осуществляется; и для меня, пишущего или читающего, он гораздо реальнее иных настоящих событий, ибо он впитывает в себя всю реальность языка и собой подменяет мне жизнь. Литература не действует, потому что она погружается на дно существования, где отсутствуют бытие и небытие и где надежда что-либо сделать полностью исключена. Она – ни объяснение, ни понимание в чистом виде, так как в ней присутствует необъяснимое. Она выражает, ничего не выражая, даря свою речь тому, что рокочет в отсутствии слов. Тогда она представляется чужестью существования, отвергнутого бытием и ускользающего от всех определений. Писатель чувствует себя жертвой безличной силы, не позволяющей ему ни жить, ни умереть: неподвластная ему безответственность становится выражением смерти без смерти, ожидающей его на краю небытия; литературное бессмертие – это то движение, через которое в мир, истощенный грубостью существования, внедряется тошнота выживания без такового; смерти, ничему не несущей конца. Писатель, создающий произведение, подавляет себя в нем и через него же утверждается. Если он писал его, чтобы отделаться от себя, происходит так, что произведение задействует его и призывает; а если он имел в виду через него заявить о себе и жить в ней, то обнаруживает, что сделанное им – ничто, что даже великое произведение не стоит самого незначительного действия; что оно обрекает писателя на чуждое ему существование, на жизнь без жизни. Или, возможно, он писал его, потому что услышал в недрах языка работу смерти, готовящей существа к истине их имен: он работал ряди этой негации и сам был негацией в действии. Но чтобы воплотить небытие, он создал произведение, а произведение, рожденное из верности смерти, в результате не способно умереть и несет лишь насмешку бессмертия тому, кто хотел подготовить себя к смерти, лишенной истории.
Так в чем же сила литературы? Она притворяется работающей в мире, и мир относится к ее работе как к опасному и пустому притворству. Она открывает себе проход ко тьме существования и не успевает произнести «больше никогда», нужное, чтобы предотвратить исходящее оттуда проклятие. В чем же ее сила? Почему такой человек, как Кафка, считал, что раз ему суждено упустить свою судьбу, то для него есть лишь один способ честно упустить ее – быть писателем. Возможно, эту тайну не разгадать, но если так, то мистика заключена здесь в праве литературы наделять безразлично каждый из своих моментов, каждый из своих результатов и позитивным, и негативным знаком. Странное право, связанное с вопросом о двусмысленности вообще. Почему в мире есть двусмысленность? Ответом будет сама двусмысленность. Ответить можно лишь обнаружив двусмысленность ответа, а двусмысленный ответ – это вопрос по поводу двусмысленности. Сила ее соблазна в том, что она порождает желание вытянуть ее на чистую воду, – желание, порождающее борьбу, похожую на сопротивление злу, о которой говорит Кафка, и несущую в результате зло, «как сопротивление женщинам, заканчивающееся постелью».
Литература – это речь, ставшая двусмысленностью. Обыденная речь тоже не всегда ясна, она не всегда подразумевает то, что говорит: непонятность – один из ее приемов. Это неизбежно, нельзя говорить, не превращая слово в монстра о двух главах: с реальностью как материальным присутствием и смыслом как идеальным отсутствием. Но в обыденной речи двусмысленности положен предел. Отсутствие в ней прочно закреплено в присутствии, она делает конечным понимание, его непредсказуемое движение; понимание ограничивается, и непонимание тоже. В литературе двусмысленность легко становится чрезмерной, находя благоприятные для себя условия, и истощается от размаха доступных ей злоупотреблений. Ей подстроили тайную ловушку, чтобы она раскрыла свои собственные ловушки и чтобы литература, предаваясь ей безгранично, пыталась удерживать ее вне поля зрения мира и вне его мысли, – там, где, совершаясь, она ничего не ставит под угрозу. Двусмысленность там воюет сама с собой. Не только сама речь готова в каждый момент стать двойственной и говорить не то, что она подразумевает, но даже общий смысл ее неясен: непонятно, выражает она или отображает, сама является вещью или обозначает ее; присутствуя, хочет быть забытой или заставляет забыть себя, чтобы оставаться на виду; прозрачна ли она из-за скудости смысла того, что сказано, или ясна в силу точности, с которой говорит; непонятна, потому что сказано слишком много, или темна, потому, что ничего не сказано. Двусмысленность ее во всем: в ничтожной видимости, – но все самое легкомысленное тут же маскируется в серьезное; в незаинтересованности, – но позади нее, однако, таятся силы мира, с которыми литература вступает в сделку, ничего не зная о них, и через ту же незаинтересованность сохраняет абсолютный характер ценностей, без которых ее действие прекратилось бы или стало смертельным; нереальность – это принцип ее действия и невозможности действовать; точно так же выдумка для нее – это правда, но в то же время – и безразличие к правде; точно так же, связывая себя с моралью она развращается, а отталкивая мораль – развращается еще больше; точно так же она – ничто, если не содержит в себе собственный конец, но она и не может нести в себе конец, в силу своей бесконечности завершаясь за пределами самой себя, в истории и т. д.
Все эти повороты от за к против – как и все прочие, упомянутые на этих страницах, – объясняются, без сомнения, самыми разными причинами. Мы видели, что литература ставит перед собой несовместимые задачи. Мы видели, что по пути от писателя к читателю, от труда к произведению она проходит через противоречивые моменты и узнает себя через утверждение всех этих несовместимых друг с другом моментов. Но все эти противоречия, все эти чуждые требования, эти разделы и несогласия, столь разные по происхождению, типу и значению, отсылают к некой конечной двусмысленности, чье странное назначение – притягивать литературу к неустойчивой точке, в которой она может изменяться и по знаку, и по смыслу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: