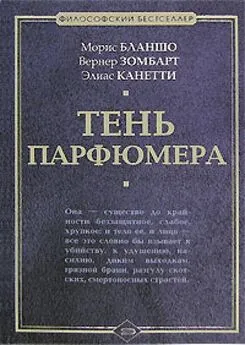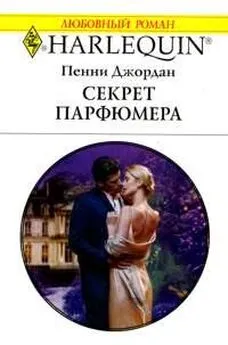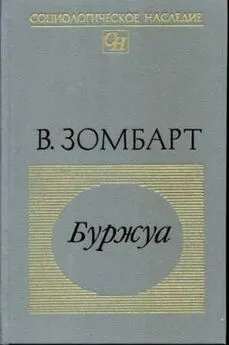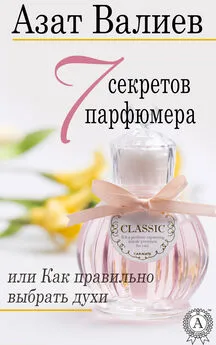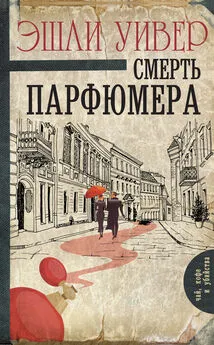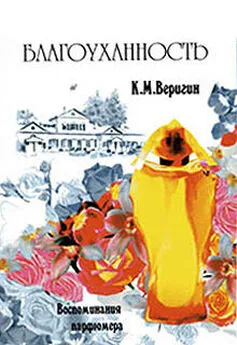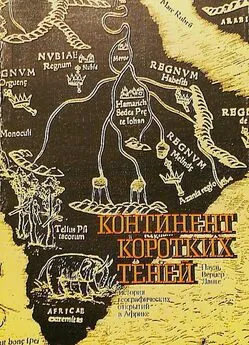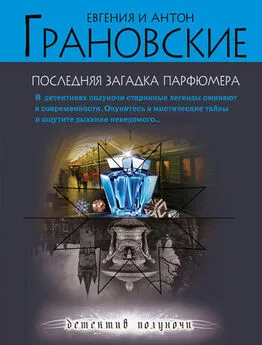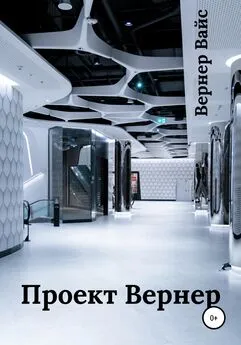Вернер Зомбарт - Тень парфюмера
- Название:Тень парфюмера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2007
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9265-0353-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вернер Зомбарт - Тень парфюмера краткое содержание
Поводом к изданию данного сборника послужил необыкновенный успех, который выпал на долю книги П. Зюскинда «Парфюмер» и на фильм, снятый по ее мотивам. Собственно, жуткая история маньяка-изобретателя достаточно широко распространена в литературе «ужасов» и фильмах соответствующего направления, так что можно было бы не подводить философскую базу под очередной триллер-бестселлер, но книга Зюскинда все же содержит ряд вопросов, требующих осмысления. В чем причина феноменального успеха «Парфюмера», почему он понравился миллионам читателей и зрителей? Какие тайны человеческой души он отразил, какие стороны общественной жизни затронул?
Ответы на эти вопросы можно найти в трудах философов М. Бланшо, В.Зомбарта, Э.Канетти, написанных, как ни странно, задолго до появления произведения П. Зюскинда.
Тень парфюмера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Это «бесплодное одиночество» сравнимо с тем, что Жорж Батай называл «истинным миром любовников»; Батай остро воспринимал противостояние обычного общества и тех, кто «исподтишка ослабляет социальные связи», что предполагает существование мира, на самом деле являющегося забвением всего мирского, утверждение столь странных взаимоотношений между людьми, что даже любовь перестает для них быть необходимостью, поскольку она, будучи крайне зыбким чувством, может изливать свои чары в такой кружок, где ее наваждение принимает форму невозможности любить или превращается в неосознанную смутную музыку тех, кто, утратив «разуменье любви» (Данте), все еще тянется к тем единственным существам, сблизиться с которыми им не поможет даже самая жаркая страсть.
Болезнь смерти
Не эту ли муку Маргерит Дюра назвала «болезнью смерти»? Когда я принялся за чтение ее книги, привлеченный этим загадочным названием, я ничего о ней не знал и могу признаться, что, к счастью, ничего не знаю и теперь. Это и позволяет мне как бы заново взяться за ее прочтение и толкование: то и другое одновременно проясняет и затемняет друг друга. Начать хотя бы с названия «Болезнь смерти», возможно позаимствованного у Кьеркегора: не содержит ли оно само по себе всю тайну книги? Произнеся его, мы чувствуем, что все уже сказано, даже не зная о том, что можно еще сказать, ибо знание тут ни при чем. Что это такое – диагноз или приговор? В самой его краткости есть нечто беспощадное. Это беспощадность зла. Зло (моральное или физическое) всегда чрезмерно. Невыносимо то, что не отвечает на расспросы. Зло в крайнем своем виде, зло как «болезнь смерти» не вписывается в рамки сознательного или бессознательного «я», оно касается прежде всего другого и этот другой – чужой – может быть простачком, ребенком, чьи жалобы звучат как «неслыханный» скандал, превосходящий возможность взаимопонимания, но взывающий к моему ответу, на который я неспособен.
Эти замечания нисколько не отвлекают нас от предложенного или, вернее, навязанного нам текста, ибо это декларативный текст, а не просто рассказ, пусть даже похожий на него с виду. Все определяется начальным «Вы», звучащим более чем повелительно, и задающим тон всему, что произойдет или может произойти с тем, кто угодил в тенета неумолимой судьбы. Простоты ради можно сказать, что это «Вы» обращено к некоему режиссеру-постановщику, дающему указания актеру, которому предстоит вызвать из небытия зыбкую фигуру того, кого он должен воплотить. Пусть так оно и будет, но тогда позволительно видеть в нем Всевышнего Постановщика, библейского «Вы», нисходящего с небес и пророческим тоном возвещающего основной сюжет пьесы, в которой нам предстоит играть, хотя мы и пребываем в полном неведении относительно того, что нам предписано.
«Не надлежит вам знать того, что разом открылось повсюду – в гостинице, на улице, в поезде, в баре, в книге, в фильме, в вас самих…». Тот, кого мы обозначили местоимением «Вы», никогда не обращается к героине книги: он не властен над нею, зыбкой, неведомой, ирреальной, неуловимой в своей пассивности, в своей полусонной и вечно эфемерной кажимости.
После первого прочтения все это можно истолковать так: нет ничего проще – речь идет о мужчине, никогда не знавшем никого, кроме себе подобных, то есть других мужчин, являющихся всего лишь повторением его самого, – о мужчине и о молоденькой женщине, связанной с ним неким контрактом, оплаченным на несколько ночей подряд или на всю жизнь, каковое обстоятельство побудило чересчур скоропалительную критику говорить о ней как о проститутке, хотя она сама уточняет, что никогда таковой не была, а просто между нею и мужчиной заключен некий контракт, мало ли какой (брачный, денежный), поскольку она с самого начала смутно предчувствовала, хотя и не знала точно, что он не сможет сблизиться с нею без контракта, сделки, и хотя отдавалась ему вроде бы безоглядно, на самом деле жертвовала лишь частью своего существа, подпадающей под условия контракта, сохраняя или охраняя свою неотчуждаемую свободу. Отсюда можно заключить, что отношения героя и героини были изначально извращены и что в продажном обществе между людьми могут существовать коммерческие связи, но никак не подлинная общность, никак не взаимопонимание, превосходящее любое использование «порядочных» приемов, будь они сколь угодно необычными. Такова игра противоборствующих сил, в которой тот, кто оплачивает и содержит, сам впадает в зависимость от собственной власти, являющейся лишь мерилом его бессилия.
Это бессилие не имеет ничего общего с банальной импотенцией, из-за которой мужчина не может вступить в интимную связь с женщиной. Герой делает все что надо. Героиня решительно и без околичностей подтверждает: «Дело сделано». Более того, ему случается «ради забавы» исторгнуть из ее уст ликующий вопль, «глухой и отдаленный стон наслаждения, еле различимый из-за прерывистого дыхания»; ему случается даже услышать ее возглас: «Какое счастье!» Но поскольку ничто в нем не отвечает этим страстным порывам (или они только кажутся ему страстными?), он находит их неуместными, он подавляет их, сводит на нет, потому что они суть выражение жизни, бьющей через край (бурно себя проявляющей), тогда как он изначально лишен подобных радостей.
Нехватка чувств, недостача любви равнозначны смерти, той смертельной болезни, которой незаслуженно поражен герой и которая вроде бы не властна над героиней, хотя она предстает ее вестницей и, следовательно, несет ответственность за эту напасть. Подобное заключение способно разочаровать читателя главным образом потому, что оно выводится из поддающихся объяснению фактов, на которых настаивает текст.
По правде говоря, он кажется загадочным лишь потому, что в нем нельзя изменить ни единого слова. Отсюда его насыщенность и краткость. Каждый может на свой лад составить себе представление о персонажах, особенно о молодой героине, чье присутствие-отсутствие в тексте таково, что оно почти затмевает обстановку действия, заставляя ее выступать как бы в одиночку. Известным образом она и впрямь существует в одиночку: молодая, красивая, наделенная ярко выраженной личностью, а герой только пялит на нее глаза да распускает руки, думая, что обнимает ее. Не будем забывать, что для него это первая женщина и что она становится первой для всех нас, первой в том воображаемом мире, где она реальней любой реальности. Она превыше всех эпитетов, которыми бы мы старались определить, закрепить ее существо. Остается лишь повторить нижеследующее утверждение (хотя оно и выражено в сослагательном наклонении): «Тело могло бы быть удлиненным, неподражаемо совершенным, словно выплавленным в один прием и из одного куска породы самим Господом богом». «Самим Господом Богом», как Ева и Лилит, за тем лишь исключением, что наша героиня безымянна, потому что ей не подходит ни одно из существующих имен. И еще две особенности делают ее более реальной, чем сама реальность: она – существо до крайности беззащитное, слабое, хрупкое; и тело ее, и лицо, в зримых чертах которого таится его незримая суть, – все это словно бы взывает к убийству, к «удушению, насилию, диким выходкам, грязной брани, разгулу скотских, смертоносных страстей». Но эта слабость, эта хрупкость оберегают ее от гибели: она не может быть убита, она находится под защитой собственной наготы, она неприкасаема, недосягаема: «Видя это тело, вы прозреваете в нем инфернальную силу (Лилит), чудовищную хрупкость, уязвимость, потаенную мощь бесконечной немощи».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: