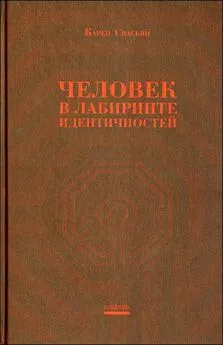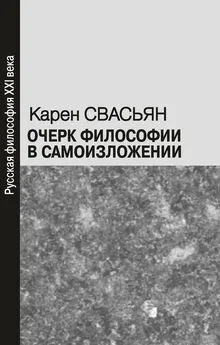Карен Свасьян - Растождествления
- Название:Растождествления
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Evidentis»
- Год:2006
- Город:Москва,
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Карен Свасьян - Растождествления краткое содержание
Растождествления — тяжелая работа сознания, отдирающего от себя все, что к нему прилипло; вахта негативного среди праздника простодушия и поддакивания… диссонанс непрерывных мироначал, вносящих в жизнь асимметрию человеческого и делающих жизнь больше и иначе, чем она есть, ибо жить (в первоначальном, недифференцированном, биометрическом смысле слова) и значит: постоянно отождествляться с общими дискурсами и сигнификатами времени, даже и тогда (в особенности тогда), когда дискурсы эти по–ученому усваиваются, а то и умножаются; отождествления начинаются с началом жизни и постепенно устраняются после перехода в смерть; неважно, с чем, с какой "символической формой" при этом отождествляешься, "доброй" или "злой", важно, что не отличаешься при этом от автомата, выбрасывающего нужный — "добрый" пли "злой" — продукт при нажатии нужной кнопки; растождествления — дезинфекция, дезинсекция, дезактивация сознания, запрограммированного автоматизмами, все равно какими: советскими или…
Растождествления - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пока философы не научатся мыслить подвижными понятиями, они будут, стоя лицом к лицу с реальным, заслоняться от него словами и обосновывать — номинализм. Что останется от народа, если отвлечься от слова и понятия «народ» и сосредоточиться на его реальном содержании! Наверное, не больше, чем страничка из справочника демагога: плакатные реминисценции с обязательным «всякой твари по паре». Социологии не повезло; она родилась мертворожденной; зато повезло тем, кто ничего не знает об этой смерти и оттого как ни в чем не бывало занимается социологией. Момент её рождения пал на эпоху «Бернаров» и «хрустальных дворцов», когда всё интеллигентное равнялось на науку, а наука равнялась на математику: с похвальным рвением неофита, стремящегося получить право на стул в университетском парадизе. Ирония заключалась в том, что сама математика, страдавшая в названное время жесточайшим кризисом, сбрасывала с себя прежнюю кожу и была уже другой: не старой математикой количеств и счета, а новой математикой качеств и гештальтов. На эту старую математику и равнялась социология в своем рвении стать наукой. Результатом стало неизбежное вырождение в статистику, в голые столбцы человеческого поголовья, выдаваемые за волю и выбор. Но подсчитывать голоса и выдавать полученную сумму за волеизъявление народа — не наука, а мошенничество. Числообразует сложение, а не образуется сложением; если 10 — это десять раз единица, то чтобы десять раз сложить единицу, надо уже иметь 10. Равным образом и слово слагается из букв только оттого, что предшествует буквам и организует их должным образом. Вопрос: кто же организует количество людей, индицируемых по общности территории, языка, крови, нравов, обычаев в народ, соответственно, в массу, толпу, сборище? Мы скажем: внешние обстоятельства: случай или, если угодно, судьба. Тысячи и тысячи людей сводятся воедино и принимают до неузнаваемости различные формы, некоторые из которых могут быть народом. Следует отличать сырье, или исходный материал, от получаемых из него фигур и композиций. Толпа, ревущая на стадионе, — это не народ. Пролежни людских тел на вокзалах или в часы пик на остановках — тоже не народ. Но они в любое мгновение могут стать народом, если этого хочет случай, судьба и вдохновение момента. Амплитуда раскачки отмечена полюсами от «сброда» и «быдла» до «братьев и сестер». Демократы, как и аристократы, связаны одной ошибкой: они путают народ с сырьем народа, и смотрят на него один раз снизу вверх, другой раз сверху вниз. Ошибка в том, что они мыслят не подвижными и сообразными действительности понятиями, а логическими самоклейками. Иной знатный римлянин мог, конечно, презирать толпу, падкую до «хлеба и зрелищ». Но разве не перехватило бы у него дыхание при виде жителей осажденной Нуманции, которые, приняв вынужденное решение сдать город, все до одного покончили с собой, чтобы жутким величием жеста омрачить врагу радость победы!
9.
Политика — служанка философии. Политика — это всегда насаждение некой философии, кнутом ли, пряником ли, всё равно, — насаждение тем более эффективное, чем меньше догадываются об этом сами садовники. Александр мог еще знать или догадываться, что он распространяет по миру греческую идею, которой стало тесно в пределах аттического мира. А Наполеону пришлось бы дожидаться Шпенглера, чтобы узнать, что он (французской кровью) утверждал на континенте английскую идею. Политики фотогеничны и любят шум. Философы вытеснены абстракциями. Но не увидеть философа за идеей, всё равно что не увидеть художника за произведением искусства. Греческая идея — это Аристотель, а английская идея — это Локк: в том же точно смысле, в каком Высокая месса hmoll — это Бах, а автор модного тезиса о смерти автора — это некий француз, не отказавшийся за свой тезис от авторского гонорара. И если география стран узнается по карте, то их идею мы опознаем по немногим именам. «Когда мне было восемнадцать, — говорит однажды Гёте [9], — Германии тоже едва минуло восемнадцать». Нужно только спросить: кто смог бы сказать такое о себе и о России? Русская идея — сверстник России: некто потеп nominandum, по самосотворенной единичности которого можно было бы идентифицировать русское, как таковое. Совсем по–флоберовски: «Госпожа Бовари — это я». И только потом уже: текст, знаковая система, структура, интерпретация, что угодно. Пример заразителен. Когда–нибудь и в философии откажутся говорить о «русской идее» иначе, чем считывая её с того, кто мог бы сказать: Россия — это я. Или, отрешеннее: о ком можно было бы сказать: Россия — это он.
10.
Особенность «русской идеи» (её прежних и нынешних двойников) в том, что она не русская. Россия с Петра — день М, гон спозаранку, сжатая до countdown рекапитуляция западного тысячелетия, если угодно, метаморфоз, но только в знаке не Гёте, а Овидия. Час недоросля, который горазд рассуждать обо всем, не желая ничему учиться. «Запад прошел школу, а мы только плохо учились у Запада, тогда как нам нужно пройти ту же школу, что проходил Запад. Нам учиться всегда недосуг, вместо схоле у нас асхолия. За азбукою мы тотчас читаем последние известия в газетах, любим последние слова, решаем последние вопросы. Будто бы дети, но на школьной скамье, мы — недоросли. Такими родились — наша антиномия — от рождения, вернее, от крещения: крестились и крестимся по–византийски, азбуку выучили болгарскую, книжки читаем немецкие, пишем книжки без стиля» (Густав Шпет). И умудряемся при этом считать себя наследниками. «Москва — третий Рим». Но почему же только Рим? Почему не Иерусалим, Париж, Флоренция или, перспективнее, Вашингтон, Пекин, Киншаса? Похоже, былинный Стаханов, задолго до того как стать забойщиком, успел побывать в интеллигентах: едва стали прорезываться зубы, а уже заговорили о собственных Невтонах. «Отчего эта фатальная спешка? — недоумевал Жозеф де Местр [10]. — Можно подумать, перед нами подросток, которому стыдно, что он не старик. Все прочие нации Европы два или три века лепетали, прежде чем стали говорить: откуда у русских претензия на то, что они заговорят сразу?» И как заговорят! «Мы давно уже философствуем о последнем», грозился Бердяев [11]. В этом «мы» и в этом «давно» ключ для диагностика. Вождя революции трудно заподозрить в способности к юмору, тем более травестийному, но трудно и отделаться от впечатления, что философский корабль 1922 года снаряжался не без аллюзии на Себастьяна Бранта.
11.
Бердяевская гасконада имеет продолжение: «под знаком Достоевского». Тут вся разгадка. Они просто спрыгнули со страниц Достоевского в «сюда» и представились — философами… «И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время». А всё от недостатка адекватности и вкуса; русская философия, как бы она ни маскировалась Кантом, Гегелем и Ницше, берет свое начало не в трактатах, а в трактирах, и шокирует почти неприличным максимумом жизненности. Чтобы быть философами, им нужно было не углубляться в проблемы, а раззвучивать их аварийными сигналами. Особенности национального философствования вполне умещались в рамках правила: quand on prend du galon, on n'en saurait trop prendre, что в вольной русской передаче могло бы означать: одна рюмка — в самый раз, две — слишком много, три — недостаточно. О последствиях можно было не думать. Там, где философия равнялась на жизнь, жизни не оставалось иного выбора, как равняться на философию. В некой воображаемой истории «русской идеи» все эти Бердяевы, Шестовы и Эрны соперничают с героем–забойщиком, нарубившим своим отбойным молотком за 5 часов 45 минут 102 тонны угля. Что ни книга, то одиннадцатиметровый, выпуливаемый в вечность: «Смысл творчества», «На весах Иова», «От Канта к Круппу», «Самопознание», «Опыт эсхатологической метафизики». Наверное, им и в голову не приходило, что возможен какой–нибудь иной опыт, кроме эсхатологического. Они и стали реальными теоретиками этого опыта и ipso facto отцами–основателями советского эксперимента; недаром же юность некоторых из них помечена посвящением в марксизм, которому они впоследствии лишь по видимости предпочли эсхатологию; на деле речь шла о центрифугировании марксизма, слишком буржуазного в своем европейском оригинале, чтобы быть идеологией жизни, как исключительного состояния. Если опыт эсхатологической метафизики где–то и оказывался реальным, то уж никак не в самих философиях, а в срезах жизни, не имеющих к философии никакого отношения и даже противопоказанных ей. Бердяевское «мы», стоящее «под знаком Достоевского», обнаруживает почти универсальную пропускную способность: можно наверняка подставить сюда не только хтонического божка Стаханова, показывающего трудоголикам–гномам «кузькину мать», или кукурозософа Хрущева, обгоняющего Америку по производству мяса, молока и яиц, но и нынешних чикагских мальчиков–реформаторов с их «дефолтами» и «500 днями». История русской идеи, от «детей страшных лет России» до «веселыхребят», есть некий паралипоменон к Достоевскому, где место богомольцев занимают комсомольцы, а мужик Марей, начав с грабежа и поджога усадеб, кончает тем, что становится кулаком (или — при ином раскладе — раскулачивающим).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: