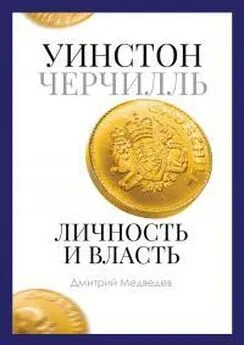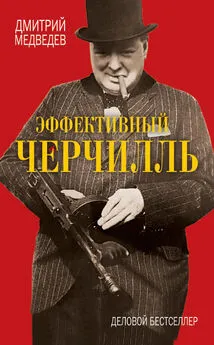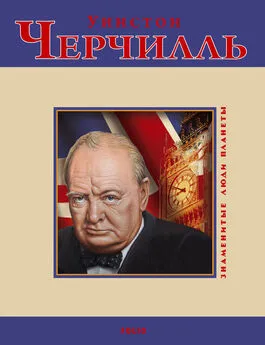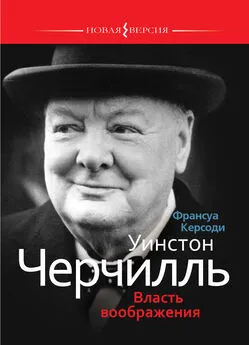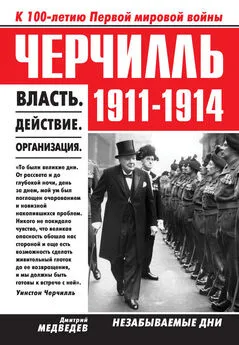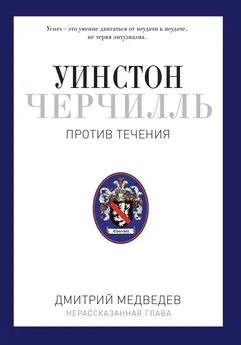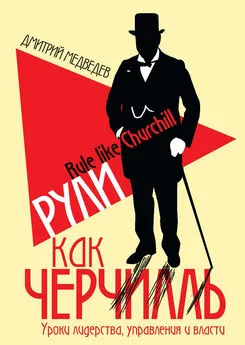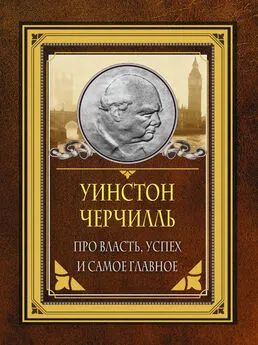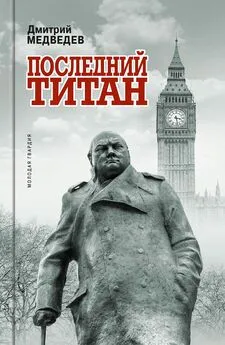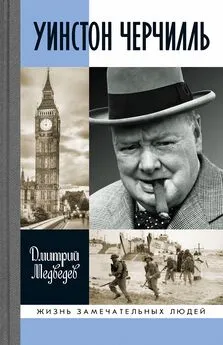Дмитрий Медведев - Уинстон Черчилль. Личность и власть. 1939–1965
- Название:Уинстон Черчилль. Личность и власть. 1939–1965
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Медведев - Уинстон Черчилль. Личность и власть. 1939–1965 краткое содержание
Уинстон Черчилль. Личность и власть. 1939–1965 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
И что тогда остается? В январе 1952 года во время своего путешествия по Северной Америке британский премьер встретился в Оттаве с фельдмаршалом [164]Джеральдом Темплером (1898–1979). В диалоге с ним он неожиданно произнес: «Просите власть, продолжайте просить власть, а когда получите власть — никогда ее не используйте» [403]. На самом деле власть можно и нужно использовать. Только не для изменения мира, а для совершенствования человека, не для построения нового будущего, а для заботы о наследии прошлого. «Мы не в силах изменить прошлое, но мы привязаны к нему, и мы можем извлечь из него уроки, которые пригодятся в будущем», — убеждал Черчилль. «Сегодня мы находимся не в том положении, чтобы сказать: „прошлое есть прошлое“. Сказав так, мы откажемся от нашего будущего», — заметил он. Развивая свою мысль через некоторое время, он подчеркнет, что «если мы развяжем войну между прошлым и настоящим, то обнаружим, что лишились будущего» [404].
Почему прошлое так важно? Потому что оно определило настоящее и содержит ключи к пониманию будущего [405]. «Любая мудрость не нова», — неоднократно говорил Черчилль в 1930-1940-е годы [406]. Все повторяется. «Почти все важнейшие решения, которые вынужден принимать современный мир, уже принимались в средневековом обществе», — констатирует он в первом томе своей «Истории». Это иллюзия, что современный человек отделен от минувших событий «долгими веками», — на самом деле «труды и взгляды объединяют нас с воинами и государственными деятелями прошлого, как будто мы читаем об их поступках и словах в утренней газете». Поэтому очень важно постигать и изучать историю: «Знать об испытаниях и борьбе своего народа необходимо каждому, кто хочет понимать те проблемы, опасности, вызовы и возможности, с которыми мы сталкиваемся сегодня» [407].
Придавая огромное значение прошлому, Черчилль не только признавал важность изучения отдельных исторических событий, но и отмечал ключевую роль мифов. Особенно наглядно его уважительное отношение к мифам, легендам и преданиям проявилось в работе над тетралогией. «Во времена кризиса мифы приобретают историческое значение», — скажет он Биллу Дикину [408]. В ходе написания первого тома у него возник спор с помощником относительно одной легенды об Альфреде Великом. Согласно преданию, которое впервые появилось в книге епископа Ассера (? — 908/909) «Жизнь короля Альфреда», во время одного из походов король инкогнито нашел приют у пастуха. Пока он готовил лук, стрелы и другое оружие, разместившись около огня, супруга пастуха решила испечь хлеб. Увлекшись по хозяйству, крестьянка обнаружила, что хлеб подгорает. Она бросилась к огню, выговаривая «неустрашимому королю»: «Эй, почему вы не перевернули лепешки, когда увидели, что они горят?» [409].
Дикин считал, что этот эпизод не столь важен для упоминания в книге, которая описывает многовековую историю англоязычных народов. Но Черчилль, напротив, считал, что, подобные легенды, «подходящие для детей любой эпохи» [410], представляют одно из важнейших сокровищ истории. Они способны выразить то, что не могут передать реальные события, и делают это достаточно убедительно. Описанный эпизод с лепешками, по мнению Черчилля, говорил о стойкости простых граждан в суровые времена борьбы с иноземными захватчиками [411]. Говорил он и том, что, насколько бы не был человек велик, он все равно состоит из плоти и крови, имеет свои недостатки и, несмотря на успешное решение глобальных проблем, порой может проявлять беспомощность в бытовых вопросах.
Сам Черчилль активно поддерживал всевозможные предания на страницах своего произведения. Например, подойдя к описанию смерти Джорджа Плантагенета (1449–1478) [165], брата королей Эдуарда IV и Ричарда III, он предупредил читателей: «Как умер герцог — об этом спорят до сих пор». О чем именно спорят историки, автор не рассказывает, приводя только одну версию, изложенную Шекспиром, — герцога утопили в бочке с мальвазией. «Конечно, это легенда, имевшая широкое хождение к началу XVI столетия, — пишет Черчилль. — Но почему бы ей не соответствовать истине?» [412].
Но если в случае с Альфредом Великим речь шла о реальном историческом персонаже, хотя сам эпизод мог быть преувеличен, а при описании убийства в Тауэре герцога Кларенса излагалась одна из версий реального исторического факта, то были случаи, когда Черчилль и в самом деле вступал на зыбкую почву вымысла. Так, например, стало с «неясной и смутной, но одновременно величественной и блистательной легендой о короле Артуре» [413]. Упоминание о предводителе рыцарей Круглого стола встречается уже в первой версии рукописи, что вызвало критические отзывы со стороны Янга, который указал, что первые упоминания о великом короле, жившем якобы в V–VI веках, встречаются только в XII столетии, но до сих пор не найдено никаких достоверных доказательств, подтверждающих существование этой личности. Черчилль согласился внести небольшие правки, оставив, тем не менее, на протяжении всех редакций упоминание о мифе про короля Артура [414]. «Правда или вымысел», но эти «легенды пленяют умы людей, — считал он. — Они столь же неотделимы от наследия человечества, как „Одиссея“ или Ветхий Завет. Все это правда или должно быть ею, а кроме того, нечто большее и лучшее» [415].
Для того чтобы понять, зачем Черчилль ввел в свой монументальный, основанный на фактах труд вымышленного персонажа, достаточно обратить внимание на то, как король Артур представлен в тексте. В его лице автор видит «великого предводителя, который собрал силы римских британцев и сразился насмерть с вторгшимися варварами». И неважно, что речь идет о «двенадцати битвах, произошедших в неизвестных местах с неведомыми врагами». Главное, что «когда бы люди ни выступали против варварства, тирании и массовых убийств в защиту свободы, чести и закона, пусть они помнят: слава их дел, даже если они сами погибнут, будет жить до тех пор, пока вращается Земля». Для Черчилля «Артур и его благородные рыцари», которые «уничтожили несметные полчища нечестивых варваров, на все времена оставили пример порядочным людям». Эти строки были написаны до 1940-го — решающего года, когда их автор встал во главе правительства и вступил в бой с новым врагом. А ведь, как написано все в той же «Истории», «Память об Артуре несет в себе надежду на то, что когда-нибудь избавитель вернется» [416].
И избавитель вернулся. В момент национального кризиса, когда суверенитет и будущее Британии стояли под вопросом, правительство возглавил потомок герцога Мальборо. В своем костюме-тройке, при галстуке-бабочке, в неизменной шляпе и с элегантной тростью он словно пришел из другой, Викторианской, эпохи. Но главное, что он смог воскресить национальные свершения прошлого, напомнив своим согражданам о победах Веллингтона и Нельсона, об успехах Дрейка и Питта, о достижениях Елизаветы I и Генриха V. В другой бы момент, когда все взгляды были бы устремлены в будущее, подобное неприкрытое обращение к минувшим дням могло оказать дурную услугу. Но летом 1940 года именно этотуправленческий стиль оказался востребован и превратился в эффективное оружие вновь сформированного коалиционного правительства.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: