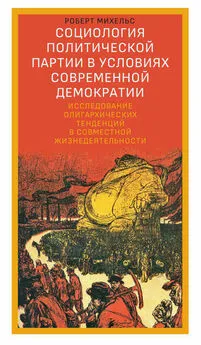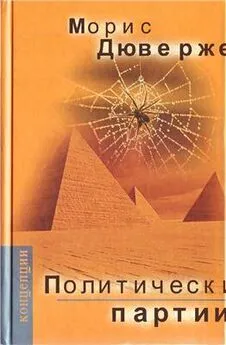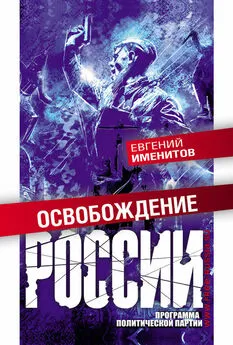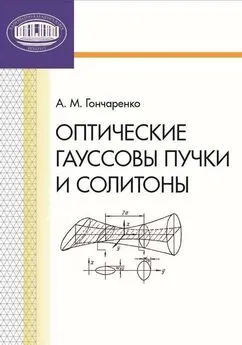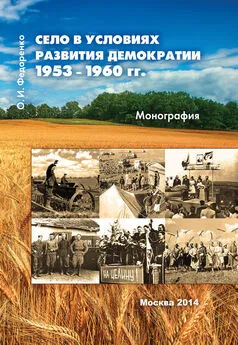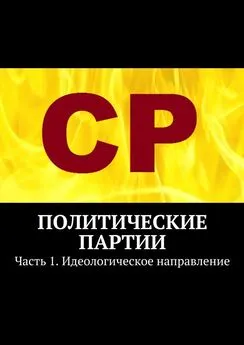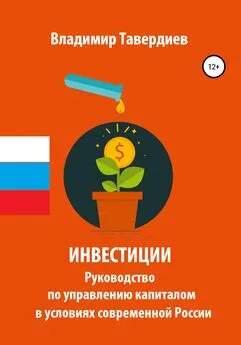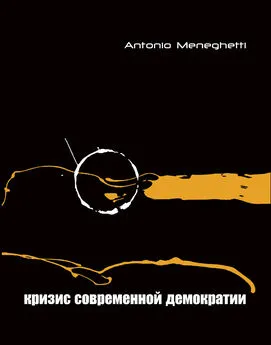Роберт Михельс - Социология политической партии в условиях современной демократии. Исследование олигархических тенденций в совместной жизнедеятельности
- Название:Социология политической партии в условиях современной демократии. Исследование олигархических тенденций в совместной жизнедеятельности
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:978-5-85006-351-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роберт Михельс - Социология политической партии в условиях современной демократии. Исследование олигархических тенденций в совместной жизнедеятельности краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Социология политической партии в условиях современной демократии. Исследование олигархических тенденций в совместной жизнедеятельности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Влияние всеобщих выборов на поведение консервативных кандидатов так велико, что во время дебатов двух кандидатов, разделяющих одни и те же взгляды в одном избирательном округе, каждый старается обозначить свое (необходимое в этих обстоятельствах) отличие от соперника, все время отклоняясь влево, то есть особенно акцентируя внимание на псевдодемократических положениях [10].
Подобные случаи доказывают, что даже консерватор пытается приспособиться к основному закону современной политики, заменившему собой религиозную аксиому о том, что «многие призваны, но немногие избраны», равно как и психологический тезис, согласно которому лишь избранное меньшинство может достичь идеала. Курциус сформулировал это в одной фразе: «В элитных частях нет необходимости. Необходимо завладеть массами и править с помощью масс [11]. Консервативному духу прошлых правителей, как бы глубоко он ни был укоренен, приходится – разумеется, только для выборов – рядиться в свободные одежды демократии.
Теория либерализма тоже выстраивает свои планы, ориентируясь не только на интересы масс. Она опирается на вполне конкретные массы, которые уже захватили власть в других областях, но еще не добились политических привилегий, а именно на социальные слои собственников и интеллектуалов. Массы сами по себе необходимы либералам исключительно как средство достижения их далеко идущих целей. Первый великий либеральный историограф Германии – Роттек упрекнул французскую королевскую власть в том, что она во время революции вынуждала буржуазию обращаться к народным массам. Он разделяет демократию на господство представителей и господство массы [12]. Во время июньской революции 1830 года Раумер, находясь в Париже, открыто сетовал на то, что массы обладают властью и невероятно трудно отобрать ее у них, не обидев и не разбудив новый мятеж [13]. Одновременно в выражениях, достойных романтического дифирамба, он превозносил систему отношений его родной Пруссии, где король и народ «по большей части витают в священных сферах», а довольные граждане не задаются вопросами о своих правах [14]. Из истории возникновения северогерманского рейхстага нам известно, что другой предводитель либералов и сторонник либеральных взглядов – историк Генрих фон Зибель высказывался против всеобщего, прямого и равного для всех избирательного права, подкрепленного лишь странным представлением либералов о массах, приведенном выше, согласно которому избирательное право «для парламентаризма любого рода может означать лишь начало конца». По его словам, избирательное право – это право на господство, и он вынужден срочно предостеречь и попросить немецкую королевскую власть с большой осторожностью прививать столь внушительные элементы демократической диктатуры в новом федеративном государстве [15]. Если вспомнить, как формировалось отношение либерализма к принципам и устройству аристократии, его внутреннее отвращение к массам становится понятным: с тех пор как возникло всеобщее избирательное право, а вместе с ним и перспективы возникновения нового, несколько коммунистически настроенного большинства избирателей или нижней палаты, многие, по мнению Рошера, научились по-новому воспринимать действующую власть короны и верхней палаты, чтобы не допустить принятия любого решения нижней палаты. Разумным также было бы не предпринимать никаких попыток по расширению существующего избирательного права без «точных статистических данных», то есть без тщательнейшего изучения соотношения сил между отдельными классами населения [16]. Недавно в одной из либеральных групп, ближе других находящейся к социал-демократам Германии – в кругах национально-социальной ассоциации, – зародилось осознание тенденции (о которой никто и не думал сожалеть), что переменчивая и непредсказуемая воля народа, находящая отныне выход в рейхстаге, не способна в одиночку повлиять на дела государства, за ней присматривают представители аристократии, не зависящие от народа, но ограничивающие его волю, наблюдающие за ней и обладающие правом вето, независимые от народа [17].
Немецкие ученые от Роттека до Науманна на протяжении целого века в поте лица старались теоретически объединить естественные противоречия демократии и милитаристской монархии. Проникнутые искренним стремлением к этой высокой цели, они пытались «расфеодализировать» монархию, то есть заменить аристократических покровителей трона на академических. Их главной задачей (вероятно, даже и неосознанно) было теоретическое обоснование этой если не так называемой социальной, то хотя бы народной монархии. Очевидно, что такая цель имела под собой политические мотивы, у которых не было ничего общего с наукой, но они не обязательно противоречили друг другу (здесь решающую роль играет методология), поскольку находились за пределами науки. Тенденция к установлению Июльской монархии – вовсе не повод упрекать ученых. Она относится к сфере политики. Напротив, что точно заслуживает осуждения с исторической точки зрения, так это отождествление возникшего за последние десять лет в Прусской Германии монархического принципа с идеей народной (социальной) монархии. В этом отношении многие немецкие либерально настроенные теоретики и историки путают мечту с реальностью. В этой путанице кроется и главная ошибка немецкого либерализма, который с 1866 года только и делает, что меняет позиции, то есть пытается скрыть свою одностороннюю борьбу с социализмом и в то же время отказ от политической эмансипации немецкого бюргерства за ложными представлениями о том, что с объединением Германии и основанием королевства Гогенцоллернов все или почти все юношеские мечты либерализма воплотятся в жизнь. Основной принцип современной монархии (наследственной монархии) совершенно несовместим с принципами демократии, даже если понимать их очень широко. Цезаризм еще можно считать демократией, во всяком случае, он может претендовать на это до тех пор, пока основывается на воле народа, легитимная монархия же – никогда.
Подводя итог, можно отметить, что в современной партийной жизни аристократия с удовольствием предстает в обличии демократии, верно и то, что сущность демократии пронизана аристократическими элементами. Аристократия в форме демократии. Демократия с аристократическим содержанием.
Внешне демократическая форма политических партий с легкостью вводит в заблуждение поверхностных наблюдателей и отвлекает их от аристократических или, вернее, олигархических тенденций, поражающих любую партийную организацию. Именно наблюдение за демократическими партиями, и в первую очередь социал-революционными рабочими партиями, может наиболее очевидным образом доказать существование такой тенденции. В консервативных партиях, за исключением предвыборных периодов, с естественной откровенностью проявляется склонность к олигархии, которая полностью соответствует их принципиально олигархическому характеру. Однако сегодня субверсивные партии явно принимают те же формы. Наблюдение за ними куда ценнее, поскольку революционно настроенные партии объясняют свое возникновение и свои устремления через отрицание этих тенденций, они возникают из этого отрицания. Возникновение олигархизации в лоне революционных партий – весьма убедительное доказательство существования глубинных олигархических тенденций в любом человеческом сообществе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: