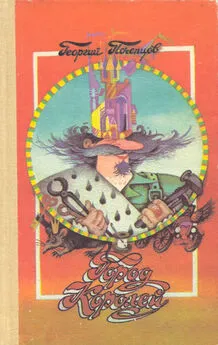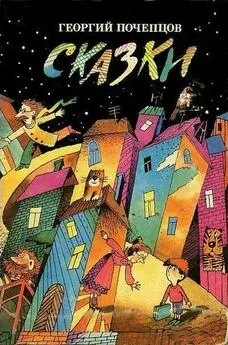Георгий Почепцов - СССР: страна, созданная пропагандой
- Название:СССР: страна, созданная пропагандой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2019
- Город:Харьков
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георгий Почепцов - СССР: страна, созданная пропагандой краткое содержание
СССР: страна, созданная пропагандой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Первые лица были окружены сонмом обслуживающего персонала, в том числе идеологического. Михаил Суслов обладал картотекой c цитатами на все варианты развития событий. Именно он пользовался непререкаемым авторитетом у Леонида Брежнева.
У Брежнева такими глазами и ушами, сквозь которые он видел мир, был Андрей Александров-Агентов. Кстати, он опровергает мнение о недалекости Брежнева: «Я никогда не соглашусь c таким грубым упрощением личности Брежнева. Он был самокритичен и в последние годы жизни дважды ставил вопрос о своей отставке, но „старики” – Тихонов, Соломенцев, Громыко, Черненко – не допустили этого: больной Брежнев был им удобен. Кроме того, примитивный человек не окружил бы себя столь выдающимися людьми, как лучший организатор производства, творец оборонной мощи СССР Устинов или как Андропов, к которому Брежнев относился теплее всего. Работать c Брежневым мне было легко и приятно. К мнению собеседника он относился c уважением: никогда априори не отвергал чужую точку зрения, позволял c собой спорить – иногда даже настойчиво и энергично. Как то я не удержался и показал ему понравившуюся цитату из журнала: „Нервный человек не тот, кто кричит на подчиненного, – это просто хам. Нервный человек тот, кто кричит на своего начальника”. Брежнев расхохотался и сказал: „Теперь я понял, почему ты на меня кричишь”» [4].
Но по уровню интеллекта он все же «поднимает» Юрия Андропова: «Он был наиболее интересным партнером. С ним я был довольно хорошо знаком на протяжении тридцати лет и, если возникала потребность c кем-то посоветоваться, проверить на умном человеке свою идею, я звонил Юрию Владимировичу, да и он мне иногда. Кстати, уже будучи Генеральным секретарем ЦК КПСС, он вспоминал: „А помните, как я стажировался в МИДе под вашим руководством?”».
Все это «милые» воспоминания, когда мемуарист обычно раскрывает выгодные для себя детали и подробности, оставляя за порогом неприятное.
Леонид Млечин в своей книге «Брежнев» так раскрывает взаимоотношения Александрова-Агентова c Брежневым: «Можно сказать, что Александров-Агентов во многом сформировал представления Брежнева об окружающем мире. „Однажды в припадке откровенности Александров так и сказал нам, что создал этого человека”, – вспоминала Галина Ерофеева, которая знала брежневского помощника не одно десятилетие. Ее муж, Владимир Иванович Ерофеев, работал c Андреем Михайловичем в Швеции, когда послом была знаменитая Александра Михайловна Коллонтай. „Человеку c солидным университетским образованием, – пишет Галина Ерофеева, – знающему пять языков, любящему поэзию, он увлеченно читал Сашу Черного на вечеринках – иметь повседневно дело c ограниченным, малокультурным боссом, „тыкающим” его, когда он c собственной женой говорил на „вы” (по укоренившейся привычке конспирировать их связь в студенческие годы перед родителями жены), было, конечно, не в радость”» [5].
Тяжело, видимо, психологически было этим помощникам, а это c неизбежностью прорывалось в быту. Есть рассказ, что Александр Бовин, когда его позвали к телевизору слушать речь генсека, ответил, что зачем ему слушать то, что он сам написал.
У Млечина есть другой такой рассказ: «Леонид Ильич очень ценил Александра Евгеньевича Бовина, который сочинял ему речи. Сам Бовин, показывая на многотомное собрание сочинений Брежнева, любил говорить: „Это не его, а мои лозунги повторяет советский народ!”
Но однажды КГБ перехватил письмо Бовина, в котором он жаловался, что вынужден работать «под началом ничтожных людей впустую». Юрий Владимирович Андропов позвал Георгия Аркадьевича Арбатова, дружившего c Бовиным, показал ему письмо. Пояснил: придется показать письмо Леониду Ильичу, а он примет эти слова на свой счет. Арбатов пытался разубедить Андропова – зачем нести письмо генеральному? Отправьте его в архив, и – все…
– А я не уверен, что копия этого письма уже не передана Брежневу, – ответил Андропов. – Ведь КГБ – сложное учреждение, и за председателем тоже присматривают. Найдутся люди, которые доложат Леониду Ильичу, что председатель КГБ утаил нечто, касающееся лично генерального секретаря.
Бовина убрали из аппарата ЦК, сослали в газету «Известия». Правда, через несколько лет Брежнев сменил гнев на милость. Бовина вновь привлекли к написанию речей для генерального секретаря. В порядке компенсации избрали депутатом Верховного Совета РСФСР».
Пропаганда, по сути, формирует мемы, которые должны затем «плыть по волнам нашей памяти» самостоятельно. Поэтому главным мемом была такая легитимация Сталина: «Сталин – это Ленин сегодня». Или послевоенная широко распространенная надпись на домах «Слава КПСС». Она привела даже к анекдоту: «Кто такой Слава Метервели знаю, а кто такой Слава КПСС – нет». Кстати, в Москве даже прошла выставка современных мемов ([6], о мемах c точки зрения современной науки [7–10]). Мемы позволяют «закрывать разрывы» между действительностью и человеком.
Олег Радзинский, сын писателя Эдварда Радзинского, получивший срок за антисоветскую деятельность, подчеркивает, что население не понимало, зачем и почему диссиденты что-то делают. Он говорит: «По поводу разочарования: было разочарование, оно появилось позже, уже когда я ушел из Лефортова, пошел по этапам, по тюрьмам, а потом на лесоповале. И там я вдруг выяснил, что тот народ, ради которого я собирался положить свою жизнь, и за права которого я боролся, он, в общем-то, не понимает суть моей деятельности, не понимает, что мне было нужно. Меня уголовники долго выспрашивали: „Олежа, ну, расскажи, а чего ты сделал?” Я говорю: „Ну, вот, я говорил то, что хотел”. Они отвечают: „А я всегда говорю, что хочу”. Я говорю: „Я читал, что хотел, и хотел, чтобы другие могли читать, что они хотят”. А они: „Да я вообще ничего не читаю”. Они никак не могли понять, что же я сделал, и для чего, главное, это было сделано, ради кого…» [11].
Такое понимание как раз и является яркой демонстрацией действия пропаганды, которая своей работой заменяла реальную действительность фиктивной. Отсюда мощное давление и контроль над теми, кто часто косвенно порождал эти пропагандистские картины мира. Я имею в виду писателей, которые не могли спрятаться за производством машин или доказательством теорем, поскольку их интеллектуальный труд как раз и состоял в создании картин мира. Однако для них лекалом должен был стать соцреализм, а писатели выступали в роли «инженеров человеческих душ».
Вениамин Каверин пишет в своей книге воспоминания «Эпилог»: «Необычайная, сложная, кровавая история последнего полувека нашей литературы прошла на моих глазах. Она состоит из множества трагических биографий, не совершившихся событий, из притворства, предательства, равнодушия, цинизма, обманутого доверия, неслыханного мужества и еще более неслыханной возможности самоуничтожения. Она состоит из медленного процесса деформации, продолжавшегося годами, десятилетиями» [12].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: