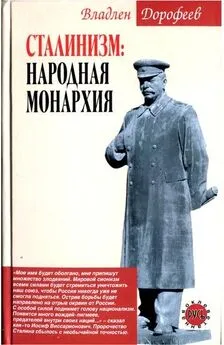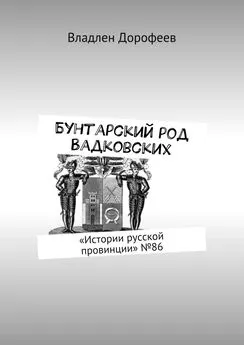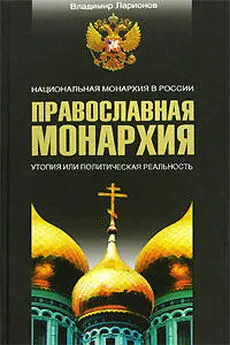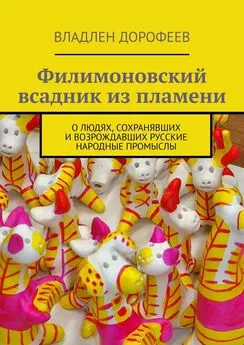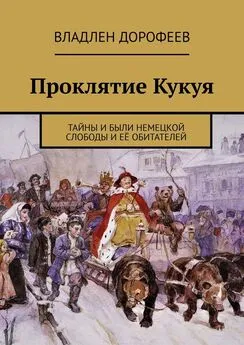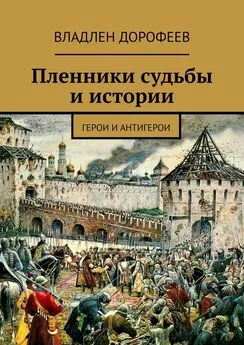Владлен Дорофеев - Сталинизм. Народная монархия
- Название:Сталинизм. Народная монархия
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо, Алгоритм
- Год:2006
- ISBN:5-699-19138-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владлен Дорофеев - Сталинизм. Народная монархия краткое содержание
«Мое имя будет оболгано, мне припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш союз, чтобы Россия никогда уже не смогла подняться. Острие борьбы будет направлено на отрыв окраин от России. С особой силой поднимет голову национализм. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри своих наций…» — сказал как-то Иосиф Виссарионович. Пророчество Сталина сбылось с необычайной точностью.
Человека, возродившего Советскую империю, победившего во Второй мировой войне, создавшего ядерный щит и меч нашей Родины объявили садистом, пьяницей и дегенератом. Однако английский премьер-министр Уинстон Черчилль назвал Сталина «выдающейся личностью, величайшим диктатором, принявшим Россию с сохой, а оставившим с атомным оружием». Эта книга раскрывает истину о великой роли И.В.Сталина в российской истории XX века, рассказывает о его великих заслугах перед Россией, о безмерной любви советского народа к своему гениальному вождю в сравнении с личностью Николая II.
Сталинизм. Народная монархия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Новому императору выпала трудная судьба. Но он мог спасти свою страну, возродить ее к новой жизни — ведь он владел неограниченной властью и неограниченными возможностями. Но этому не суждено было произойти.
Свита нового царя заметно изменилась, но не в лучшую сторону. Свое окружение Николай формировал не по деловым качествам, а руководствуясь юношескими пристрастиями и симпатиями. Ко двору и в свиту императора стали входить люди с подмоченной репутацией и довольно сомнительными деловыми качествами. Не останавливался Николай и перед реабилитацией таких лиц, которых его отец наказывал за дела чисто уголовного порядка. Он их приближал к себе, за что они, стараясь заслужить его расположение, всячески угождали ему, искажая в своих докладах действительное положение вещей в стране и восхваляя его мудрость в управлении государством. Когда старейший генерал-адъютант Чертков попытался обратить на это внимание монарха, тот сухо ответил, чтобы он не вмешивался в его личные назначения.
Вскоре царский двор пополнился всякого рода ясновидящими, колдунами, прорицателями и просто шарлатанами, выдающими себя за святых. В их числе был и Распутин. Что касается здравомыслящих людей, действительно болеющих душой за судьбу страны и монархии, то они оказались на обочине, их мнением царь не интересовался. Ему казалось, что они покушаются на его власть. «Мне известно, — сказал он в своей первой тронной речи 17 января 1895 года, — что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекшихся бессмысленными мечтами об участии представителей земств в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все силы свои благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой незабвенный покойный родитель».
Многие из присутствующих слушали царя с недоумением. Правда, оставалась слабая надежда на то, что речь новоявленного императора просто не очень хорошо продумана. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Вскоре многие стали замечать в молодом самодержце проявление жестокости, бессердечности и вместе с тем — детскую наивность, веру в обряды, чудеса, спиритические предсказания.
Помазанник Божий
Первое, что обращает на себя внимание: никто из современников Николая II не дает ему положительной оценки и не поминает добрым словом. По крайней мере, мне не удалось найти этого ни в воспоминаниях выдающегося судебного деятеля и ученого-юриста, блестящего оратора и талантливого писателя Анатолия Федоровича Кони, ни в очерках публициста, служившего в одном из гвардейских полков в Царском Селе и близко наблюдавшего императора Виктора Петровича Обнинского, ни в мемуарах крупных политических деятелей того периода Сергея Юрьевича Витте и Михаила Владимировича Родзянко, ни в оценке английского дипломата сэра Джорджа Бьюкенена, ни у кого-либо другого.
«Мои личные беседы с царем, — пишет в своих воспоминаниях А.Ф. Кони, — убеждают меня в том, что Николай II несомненно умный…» И тут же делает оговорку: «если только не считать высшим развитием ума разум как способность обнимать всю совокупность явлений и условий, а не развивать только свою мысль в одном исключительном направлении».
В каком именно направлении развивал свою мысль император, Кони не уточняет. Говоря о достоинстве, он отмечает: «Если считать безусловное подчинение жене и пребывание под ее немецким башмаком семейным достоинством, то он им, конечно, обладал».
Одним словом, мыслительные способности и интеллектуальные достоинства Николая II Кони оценивает, мягко скажем, невысоко. Однако беда не только в ограниченности ума, но «…и в отсутствии у него сердца, бросающемся в глаза в целом ряде его поступков, — считает Кони. — Достаточно припомнить посещение им бала французского посольства в ужасный день Ходынки, когда по улицам Москвы громыхали телеги с пятью тысячами изуродованных трупов, погибших от возмутительной и непредусмотрительной организации праздника в его честь, и когда посол предлагал отложить этот бал».
Ходынская катастрофа случилась 18 мая 1896 года в Москве во время коронации Николая И. В тот день, вследствие преступной халатности местных властей и, в частности, генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, дяди Николая II, погибли тысячи людей. Великое горе свалилось не только на Москву (посмотреть на коронацию царя и получить подарки в честь его коронации приезжали люди из многих областей страны), но и на всю Россию. А Николай И тем временем танцевал на бале французского посланника. Когда ему посоветовали не ходить на бал, он не согласился: «По его (Николая И) мнению, — вспоминал в своих мемуарах С. Ю. Витте, — эта катастрофа есть величайшее несчастье, но несчастье, которое не должно омрачать праздник коронации; ходынскую катастрофу надлежит в этом смысле игнорировать».
Подобные рассуждения не назовешь даже глупостью — они говорят скорее о душевной черствости. Однако танцы на балу после катастрофы — не единственное свидетельство жестокости и бессердечности императора. Такие качества своего характера он демонстрировал на протяжении всего царствования. «Разве можно забыть, — пишет Кони, — равнодушное попустительство еврейских погромов, жестокое отношение к ссыльным в Сибирь духоборам, которым как вегетарианцам на Севере грозила голодная смерть, о чем пламенно писал ему Лев Толстой. Можно ли, затем, забыть Японскую войну, самонадеянно предпринятую в защиту корыстных захватов, и посылку эскадры на явную гибель, несмотря на мольбы адмирала. И, наконец, нельзя простить ему трусливое бегство в Царское Село, сопровождаемое расстрелом безоружного рабочего населения 9 января 1905 года».
А между тем, по мнению Кони, «…ему, по Евангельской изречению, вина прощалась 77 раз. В его кровавое царствование народ не раз объединялся вокруг него с любовью и доверием. Но все это было вменено в ничто, и интересы Родины были принесены в жертву позорной вакханалии распутства и избежанию семейных сцен со стороны властолюбивой истерички».
Вспоминая свои встречи с Николаем II, Анатолий Федорович пишет: «…хотя я и был удостоен, как принято было писать, «высокомилостевым приемом», но никогда не выносил я из кабинета русского царя сколько-нибудь удовлетворенного впечатления. Несмотря на любезность и ласковый взгляд газели, чувствовалось, что цена этой приветливости очень небольшая и, главное, неустойчивая… Глаза газели смотрели на меня ласково, рука, от почерка которой зависело счастье и горе миллионов, автоматично поглаживала и пощипывала бородку, и наступало неловкое молчание, кончаемое каким-нибудь вопросом «из другой оперы».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: