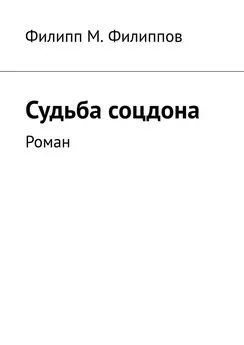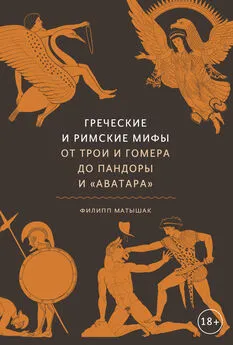Филипп Лаку-Лабарт - Нацистский миф
- Название:Нацистский миф
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Владимир Даль
- Год:2002
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-93615-027-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Филипп Лаку-Лабарт - Нацистский миф краткое содержание
Философские размышления о нацизме, как историческом явлении.
Нацистский миф - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Более того: с уверенностью можно сказать, что с этой точки зрения в немецкой истории господствовала неумолимая логика «двойной связки» (двойственного, разнонаправленного предписания, через которое Бэтсон, следуя в этом Фрейду, объяснял психоз). Строго говоря, болезнь, всегда угрожавшая Германии, называется шизофренией, которая и сгубила столько ее художников.
Почему вдруг логика «двойной связки»? Потому что освоение способа идентификации одновременно и должно, и не должно проходить через подражание Древним, то есть прежде всего грекам. Должно, потому что нет никакой другой модели, кроме модели греков (с той поры, как рухнула религиозная трансцендентность вместе с соответствовавшими ей политическими структурами: вспомним, что это немецкая мысль провозгласила «смерть Бога» и что средний романтизм обрел опору в ностальгии по христианскому средневековью). Не должно, потому что этой моделью уже воспользовались другие. Как ответить на этот разноречивый императив?
По всей видимости, в немецкой культуре нашлось два выхода: прежде всего теоретический, то есть, строго говоря, спекулятивный. Это выход, предоставленный диалектикой, логикой удержания и упразднения, достижения высшего тождества и разрешения, в конечном итоге, противоречия. Гегель является его самым очевидным и (возможно) самым последовательным представителем, но даже в век «спекулятивного идеализма» он не обладает монополией на общую схему такого решения. Последнее, впрочем, прокладывает дорогу главным образом Марксу. Понятно, что диалектический выход представляет собой, вопреки тому, что думалось Ницше (всем известно, однако, докуда довело его наваждение идентичности), надежду на некое «здоровье». Но мы не можем здесь дольше задерживаться на этом первом пути.
С другой стороны, имеется эстетический выход или надежда на некий эстетический выход; на нем-то мы и хотим задержаться, потому как он сыграл далеко не последнюю роль в развитии национал-социалистической «болезни».
В чем заключается его принцип?
В том, чтобы прибегнуть к другим грекам, не тем, что уже были использованы до сих пор (то есть во французском неоклассицизме). Еще Винкельман говорил: «Нам следует подражать древним, чтобы самим стать, коли это возможно, неподражаемыми» [13] «О подражании греческой скульптуре и живописи»
. Но оставалось понять, чему же можно было подражать в древних, да так, чтобы добиться коренного отличия немцев.
Ни для кого не секрет, что открытие, которое сделали немцы на заре спекулятивного идеализма и романтической филологии (в последнем десятилетии XVIII века, в Йене, где-то между Шлегелем, Гельдерлином, Гегелем и Шеллингом) состояло в том, что было, дескать, две Греции: Греция меры и ясности, теории и искусства (в собственном смысле этих слов), «прекрасной формы», мужественной и героической строгости, закона, Града, светлого дня; и Греция погребенная, темная (или слишком уж слепящая), Греция исконная и первобытная, с ее объединяющими ритуалами, леденящими душу жертвоприношениями и повальными опьянениями, Греция культа мертвых и Земли-Матери — короче говоря, Греция мистическая, на которой первая с большим трудом (то есть «вытесняя» ее) воздвигла себя, но которая все время глухо давала о себе знать вплоть до конечного крушения, в особенности в трагедиях и мистериальных религиях. И след этого раздвоения «Греции» можно проследить по всей немецкой мысли, начиная, например, с гельдерлиновского разбора Софокла или «Феноменологии духа» и кончая Хайдеггером, захватив по пути «Mutterrecht» Бахофена, «Психею» Роде или оппозицию дионисийского и аполлоновского, структурирующую «Рождение трагедии».
Разумеется, мы немного упрощаем: далеко не все описания этой двоякой Греции согласуются между собой, и чаще всего принципы оценки у разных авторов весьма ощутимо расходятся. Но если взять (против правила) своего рода средний показатель — а идеология действует именно так — то можно утверждать, что это открытие подразумевает, вообще говоря, некоторое число решающих следствий.
Мы остановимся на четырех.
1) Очевидно, что это открытие позволяет выдвинуть вперед новую историческую модель и отделаться от неоклассической Греции (Греции французской и даже, если копнуть поглубже, Греции римской и возрожденческой). Это позволяет Германии с одного маху отождествить себя с Грецией. Следует отметить, что с самого начала отождествление это будет основываться на идентификации немецкого языка с языком греческим (разумеется, поначалу все это чистая филология).
Это значит, что было бы заблуждением думать, слишком уж упрощая дело, что идентификация произошла с другой Грецией, забытой и мистической, и что этим все исчерпывается: этого немного было все время, но в силу ряда причин, о которых нам предстоит говорить, всегда было не только это. Никогда идентификация с Грецией не была единственной формой вакханалии.
Это значит также, с другой стороны, что этот тип идентификации, в истоке своем исключительно лингвистический, как раз и присовокупился к призыву к «некоей новой мифологии» (Гельдерлин, Гегель и Шеллинг в 1795 г.) или к призыву к насущному строительству «мифа будущего» (Ницше, via Вагнер в 80-е годы). В самом деле, сущность изначального греческого языка, muthos, в том, что он, как и немецкий язык, способен к символизации и тем самым способен к производству или формированию «созидательных, мифов» — для народа, который сам по себе определяется лингвистически. Стало быть, идентификация должна пойти по пути строительства мифа, а не быть просто возвращением к старым мифам. От Шеллинга до Ницше попыток такого рода вполне хватает.
Следовательно, строительство мифа по необходимости будет теоретическим и философским или, если угодно, сознательным, пусть даже происходит оно в стихии поэзии. То есть ему предстоит принять форму аллегории, как в «Кольце» Вагнера или в «Заратустре» Ницше. Таким образом диалектически будет снята оппозиция между богатством изначального мифологического творчества (которое является бессознательным) и абстрактной всеобщностью рационального мышления, Логоса, Просвещения и т. п. Согласно схеме, представленной Шиллером в работе «О наивной и сентиментальной поэзии», строительство современного мифа (или, что сводится к тому же самому, современного произведения искусства) всегда мыслится как результат диалектического процесса. Вот почему-то, что мы назвали «эстетическим выходом», неотъемлемо от выхода теоретического или философского.
2) Та же самая логика (диалектическая) работает в том, что можно было бы назвать механизмом идентификации. В этом отношении следует провести строгое различие между тем, как была использована первая и вторая Греция.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

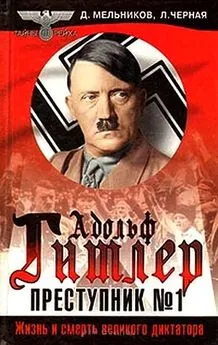
![Филипп Матышак - Греческие и римские мифы. От Трои и Гомера до Пандоры и «Аватара» [litres]](/books/1065048/filipp-matyshak-grecheskie-i-rimskie-mify-ot-troi-i.webp)
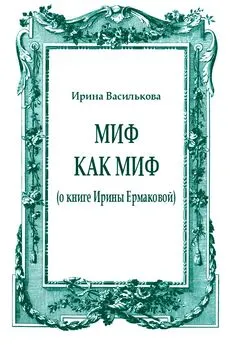
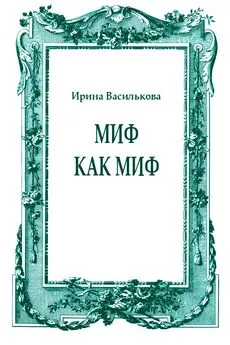

![Роберт Асприн - Удача или МИФ [= Иначе — это МИФ]](/books/1131203/robert-asprin-udacha-ili-mif-inache-eto-mif.webp)