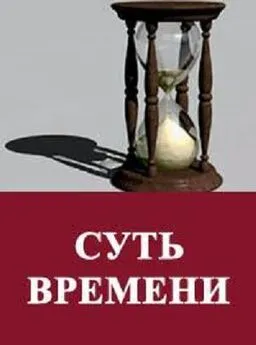Сергей Кургинян - Суть Времени 2013 № 12 (23 января 2013)
- Название:Суть Времени 2013 № 12 (23 января 2013)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЭТЦ
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Кургинян - Суть Времени 2013 № 12 (23 января 2013) краткое содержание
Экономическая война: Большая энергетическая война. Часть XI. Энергия возобновляемых источников
Информационно-психологическая война: Машина зла — 2
Классическая война: Доктрина тотальных войн
Наша война: Сопротивление разгрому образования
Война с историей: Как это делается в Перми…
Мироустроительная война: Игра с огнем
Концептуальная война: Концептуализация Не-Бытия
Война идей: Дивный новый мир
Диффузные сепаратистские войны: Построение новой «Золотой Орды» под знаменами халифата?
Метафизическая война: Словари
Культурная война: Модерн и Нью Эйдж — 2
http://gazeta.eot.su
Суть Времени 2013 № 12 (23 января 2013) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Скажете: так то уходящая натура, люди старшего поколения, а в перестройку выдвинулись другие — молодые, активные, не обремененные всем этим грузом ненужностей, они и заняли позиции, и вот теперь гуляют на широкую ногу? Да, это так отчасти. Но, во-первых, среди «победителей» есть все возраста. А во-вторых, молодые-выдвинувшиеся до своего выдвижения где-то жили, кто-то их воспитывал и т. д. Так что вопрос все равно закономерный: как эта вреднючая и совершенно «не наша» (даже по элементарности своей не наша) идея нажраться, а там хоть потоп, завладела массами? Отчего проповедь гедонизма дала такие быстрые всходы? Вопреки культуре, вопреки аскетичным привычкам народа, вопреки поколениям, для которых коллективизм был условием выживания, вопреки совсем недавней истории… Здесь, пожалуй, можно и остановиться, поскольку она-то, недавняя позднесоветская история, и «подгадила».
Одна молодая интеллигентная женщина, родственница моего знакомого, где-то в конце 70-х сказала — с вызовом и, представьте, ну совершенно серьезно: «Старшее поколение так много воевало и трудилось, что уж мы-то имеем право отдохнуть!» Согласитесь, очень лапидарно сформулировано. И при всей абсурдности именно это было ведущим умонастроением образованной публики в ходе 80-х. Под этим знаменем перестроечное воинство двинулось к потребительскому идеалу. Но для начала интеллигенцией были освоены азы индивидуализма и народофобии. Что, повторяю, объективно было совсем нелегко сделать в столь ускоренные сроки в России, с народолюбивой традицией ее образованного сословия. Но ведь сделали! Конечно, не в одночасье.
Когда встает вопрос о войне идей в России, то естественен и вопрос о носителях идей. Тех, иных — всяких. Кто они? Это вопрос, пожалуй, слишком простой, чтобы им задаваться. Ясно же кто — наша интеллигенция! В широком смысле слова. То есть если брать с самого начала «борьбы идей в России» — с появления свободно мыслящих просвещенных дворян, потом разночинцев и далее, и до конца, до советской интеллигенции, и ее конца в горниле устроенной ею же перестройки. Но вот когда задаешься этим совсем простым вопросом, то он сразу оборачивается следующим (тоже вроде бы простым). А не было ли там, внутри этой «идеетворящей» и в целом прогрессистской социальной группы своей борьбы идей?
Нет-нет, не между славянофилами и западниками, марксистами и религиозными философами, левыми и правыми уклонистами. А вообще борьбы на уровне мировоззренческих оснований, да такой, что кончилась внутренней тихой идейной революцией? И «сливом» всего этого специфического отечественного сословия. Ведь результат-то налицо. Что наблюдаемое сейчас уже очень мало похоже на то, что было принято называть русской интеллигенцией — вряд ли тут есть два мнения? Оговорюсь, речь не о рядовых ученых и инженерах, учителях и врачах, а именно о той части интеллигенции, которая традиционно формировала систему взглядов и имела возможность транслировать ее в общество, так сказать, идейно водительствовала. О «властителях дум», то есть.
Где-то в 70-е годы XX века произошел отказ этой, транслирующей идеальное, группы от собственной «смыслозадающей» идеи. Той, которая являлась краеугольной буквально во все времена ее, интеллигенции, существования. Краеугольной у русской интеллигенции была, как все помнят, идея служения народу. От Радищева, который «взглянул окрест» и душа «страданиями человечества уязвлена стала» — и далее, что называется, со всеми остановками. Иногда эта приверженность народу подвергалась серьезным испытаниям, и кто-то не выдерживал, говоря: «Народ-богоносец надул…» Часто интеллигента несуразным образом идеализировали, а реальные люди не соответствовали классическому образцу, заданному Чеховым. Как без этого! Но все же, пусть и мифологизированный, данный человеческий тип держался очень долго. Инерция, заданная великой русской литературой, была велика, она не позволяла «прослойке» отступить от некрасовского завета:
Сейте разумное, доброе, вечное.
Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ…
Так что же произошло в эпоху застоя (а на самом деле началось раньше, уже при Хрущеве) такого, что позволило состояться самому скверному сценарию политического преобразования системы — перестройке?
Процессы, которые пошли в интеллигентской среде после ХХ съезда, а именно, тотальное разочарование в идеалах коммунизма, породили нигилизм особого рода. Распространившийся уже не на сферу собственно идеологии, а на идеальное вообще. То, что бурным цветом расцвело и выплеснулось на все общество в перестройку, на самом деле уже в 60-е — 70-е подтачивало изнутри, втихую, ту часть общества, которая и была ответственна за воспроизводство идеального, воспроизводство смыслов. Еще Дудинцев пишет «Не хлебом единым», и это с восторгом читает рядовой инженер, еще Баталов страшно убедительно жертвует собой ради науки в роммовском «9 дней одного года», еще коллизии гранинского «Иду на грозу» тревожат чистую советскую молодежь, но… уже рафинированная часть столичной интеллигенции снисходительно кривит губы. Ученый-одиночка, борющийся за свое изобретение, физик-ядерщик, получивший смертельную дозу в поисках «термояда» для человечества… нет, это уже не герои их романа. Там уже читают Бахтина и прославленного им Рабле. Скепсис, поначалу обращенный на идеологию и политику, постепенно становится тотальным. Вот уже и про занятия наукой можно кокетливо сказать, что это всего лишь «удовлетворение собственных интеллектуальных потребностей» (собственных! потребностей! а то, не дай бог, сочтут старомодным).
К 80-м советская интеллигенция напрочь избавилась от определяющего «видового признака» — некой вековой неловкости перед народом за свою лучшую, чем у него, жизнь, и от обязательств по «сеятельству». Это было отброшено. Как предрассудок. Оказалось, что все можно! Можно сосредоточиться, наконец, на себе любимых, и — никаких нравственных ограничений. Можно заговорить на бесценностном языке — например, о комфорте как высшем и обязательном приоритете. Но при этом — продолжать морализировать! Можно заявлять о своей избранности и о ничтожестве народа, его безнадежно «хамской» природе.
Окончательное освобождение произошло в перестройку. «Собачье сердце» довольно активно ходило по рукам в самиздатовском варианте еще с середины 60-х, но говорить про «шариковщину» становится внутренне допустимым только в перестройку. Причем, говорить много и с видимым удовольствием. Еще бы, найден, наконец, образ-индульгенция, то, что позволяет отряхнуть прах старого мира (любую ответственность) и двинуть в новый! Дивный новый мир! Где, конечно, будет… что? — правильно, наслаждение жизнью. Где восторжествует принцип удовольствия. Освобождение от ответственности — это обретение безответственности. Безответственен кто? Инфантил. Инфантильность и доверчивость, проявленные нашим образованным сословием в годы перестройки, вряд ли имеют прецедент в истории.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: