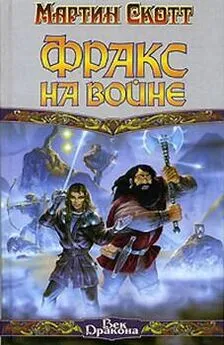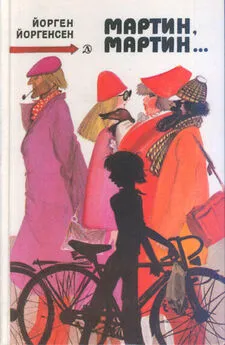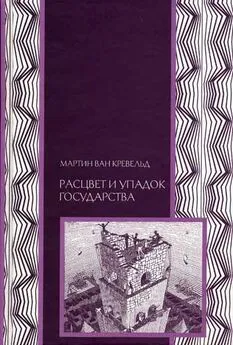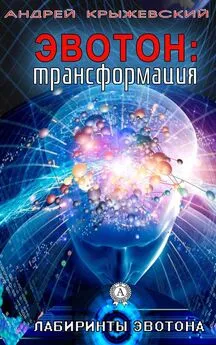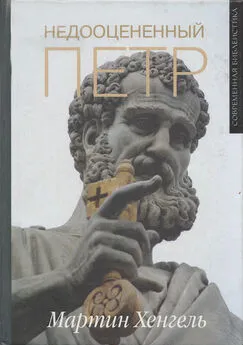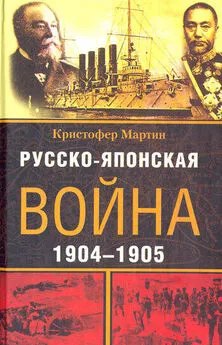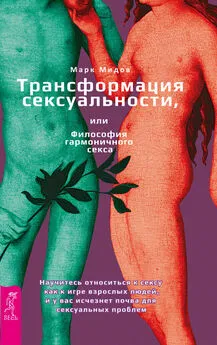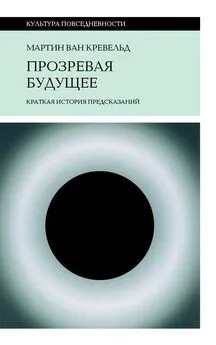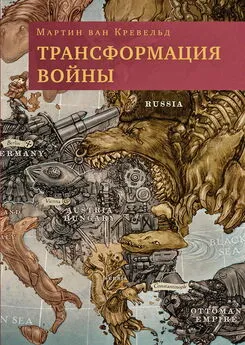Мартин Кревельд - Трансформация войны
- Название:Трансформация войны
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИРИСЭН
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-9614-0280-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мартин Кревельд - Трансформация войны краткое содержание
В книге предпринят пересмотр парадигмы военно-теоретической мысли, господствующей со времен Клаузевица. Мартин ван Кревельд предлагает новое видение войны как культурно обусловленного вида человеческой деятельности. Современная ситуация связана с фундаментальными сдвигами в социокультурных характеристиках вооруженных конфликтов. Этими изменениями в первую очередь объясняется неспособность традиционных армий вести успешную борьбу с иррегулярными формированиями в локальных конфликтах. Отсутствие адаптации к этим изменениям может дорого стоить современным государствам и угрожать им полной дезинтеграцией.
Книга, вышедшая в 1991 году, оказала большое влияние на современную мировую военную мысль и до сих пор остается предметом активных дискуссий. Русское издание рассчитано на профессиональных военных, экспертов в области национальной безопасности, политиков, дипломатов и государственных деятелей, политологов и социологов, а также на всех интересующихся проблемами войны, мира, безопасности и международной политики.
Трансформация войны - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вопрос о том, сколь именно протяженный отрезок истории следует считать недавним, занимал Клаузевица, но он так и не дал на него четкого ответа. Лишь в некоторых из своих обширных трудов по военной истории Клаузевиц доходит до XVII в., до времен Густава Адольфа и Тюренна; в большинстве же речь идет о событиях XVIII в., Семилетней войне и наполеоновских войнах. В самой книге предлагается несколько различных отправных точек. Во-первых, 1740 год, поскольку именно в этом году началась Первая Силезская война между Австрией и Пруссией — первая кампания Фридриха Великого. Во-вторых, 1701 год, когда началась война за испанское наследство, первая в истории война, в которой не использовалось древнейшее оружие — пика. Однако Vom Kriege — слишком фундаментальный труд, чтобы руководствоваться такими техническими подробностями. Одно из наиболее важных утверждений Клаузевица состоит в том, что война представляет собой разновидность общественной деятельности. Будучи таковой, она формируется общественными отношениями — типом общества, которым она ведется, и способом правления, принятым этим обществом. Во времена Клаузевица в том будущем, в которое он мог проникнуть своим мысленным взором, преобладающей формой правления было государство (state) [9] Здесь и далее автор четко различает понятия government («правление», «правительство») и state (государство современного типа, т. е. абстрактная корпорация, являющаяся юридическим лицом, отделенным от личности правителя, включающая в себя правителей и управляемых, но не совпадающая с ними ни в совокупности, ни с каждым из них в отдельности). В данном переводе слово «государство» использовалось только для передачи термина термина state. — Прим. ред.
. Поэтому он не видел особого смысла в подробном изучении тех исторических событий, которые происходили до возникновения государства, иными словами, до Вестфальского мира 1648 г. Более ранние исторические события упоминаются в Vom Kriege исключительно для того, чтобы показать их полную чуждость всему остальному, о чем идет речь.
Военная карьера самого Карла фон Клаузевица также связана с рассматриваемой темой. Она началась во время войны Первой Коалиции с Францией и более-менее завершилась битвой при Ватерлоо. «Воспламененный горячей любовью к родине и ненавистью к Бонапарту», он стал активным (хотя, на его взгляд, недостаточно) участником этих событий. Вся его умственная работа может быть понята лишь в контексте величайших исторических перемен, происходивших на его глазах. В некотором смысле она представляла собой попытку понять и истолковать эти перемены. Здесь не место обсуждать и анализировать французские революционные и наполеоновские методы ведения войны, ставшие предметом страстных споров уже в ходе самих событий. Достаточно сказать, что в период с 1793 по 1815 г. появилась новая форма войны, уничтожившая в пух и прах regime ancien. В ходе этого все изменилось до неузнаваемости: организация войск, их стратегия, способы управления ими и многое другое. Что еще важнее, резко возрос масштаб военных действий и, самое главное, размеры применяемых сил.
Несмотря на грохочущее неистовство истории того времени, если мы зададимся вопросом не о том, как велись войны, а кем они велись, или, если прибегнуть к терминологии самого Клаузевица, какие общественные отношения за ними стояли, то можем сделать вполне убедительный вывод, что на самом деле за тот период мало что изменилось. Не считая непродолжительного периода революционных вспышек 90-х годов XVIII века, война была чем-то таким, что одно государство ведет против другого. И до, и после 1789 г. войну вели не народы, не армии сами по себе, а правительства. В конечном счете при всех переменах и потрясениях природа правительства изменилась не так уж сильно. Надежно установив свою власть, Наполеон стал вести себя, как обычный монарх тех времен: женился на наследнице величайшей из правивших тогда династий и стал жаловать герцогские и княжеские титулы направо и налево. Он называл войну с Пруссией mes affaires [10] «Мои дела» (фр.). — Прим. пер.
и, обращаясь к своим маршалам, называл их mes cousins [11] «Мои кузены» (фр.). — Прим. пер.
.
Каковы бы ни были различия между правительством и государством, и то и другое суть искусственные образования; ни одно из них не тождественно ни личности правителя как таковой, ни народу, которого, как считается, оба они представляют. Тот постулат, что организованное насилие может быть названо «войной» только в том случае, когда оно ведется государством, во имя государства и против государства, было аксиомой для Клаузевица, не требующей почти никакого дополнительного обоснования. Из того же самого постулата исходят и все современники этого военного мыслителя, включая самых миролюбивых из них, таких как Иммануил Кант в своей работе «Проект вечного мира».
О том, насколько тесно война ассоциируется с государством, парадоксальным образом свидетельствуют случаи, когда неправительственные организации пытались вести войну по собственной инициативе, вне следования каким-либо директивам или установлениям официальных властей. Такие случаи имели место даже в «цивилизованном» XVIII в. Во время захватнических войн Людовика XIV савояры, отсталый народ, живший в горах на границе между Францией и Италией, очень часто прибегали к насилию, защищая от реквизиции солдатами своих лошадей (не говоря уж о защите чести женщин). Еще одной излюбленной жертвой французских вторжений было Германское пфальцграфство. Его жители в своей дерзости периодически доходили до того, что стреляли в оккупационные войска из засады, за что и получили прозвище Schnappeurs: по преданию, это слово является словоподражанием, происходящим от звука, издаваемого запальным механизмом при нажатии на спусковой крючок. Реакция французов на такие «неофициальные» боевые действия ничем не отличалась от реакции других завоевателей до и после них. Они убивали, сжигали и разоряли поселения, ничем или почти ничем себя не ограничивая, опустошали целые районы и именовали все это «умиротворением».
С современной позиции самым примечательным в этих репрессиях было то, что они были законными с точки зрения международного права, осуждавшего мятежи. Их оправдывал даже Эмерик де Ваттель, великий и гуманный швейцарский юрист, чьи труды по этому предмету оставались эталоном вплоть до Гражданской войны в Америке. Ваттель, писавший в 1750-е гг., по этому поводу придерживался того мнения, что война — дело суверенных государей и только их. Он определял ее как способ, с помощью которого, faute de mieux [12] «За неимением лучшего» (фр.). — Прим. пер.
, государи улаживали свои разногласия. Монархи должны были вести войну таким образом, чтобы минимизировать ущерб как их собственным солдатам, которые заслуживали гуманного обращения в случае ранения или попадания в плен, так и гражданскому населению. В свою очередь, население не имело абсолютно никакого права вмешиваться в выяснение отношений между суверенами даже в тех случаях, когда результатом конфликта было лишение одного из них собственности и даже угроза для жизни кого-либо из них. Ваттель, не будучи ни мечтателем, ни глупцом, не собирался отрицать, что война — это сфера грубого насилия и произвола. И все же четкое разграничение между вооруженными силами и гражданским населением должно было соблюдаться любой ценой. В противном случае Европа вновь могла вернуться во времена Тридцатилетней войны со всем ее варварством.
Интервал:
Закладка: