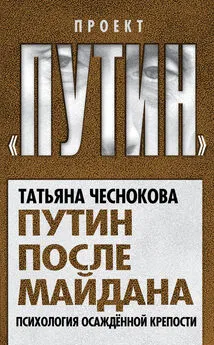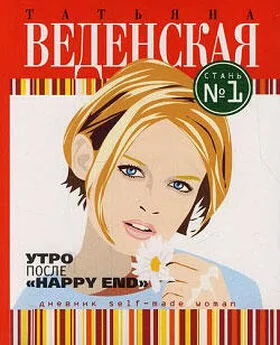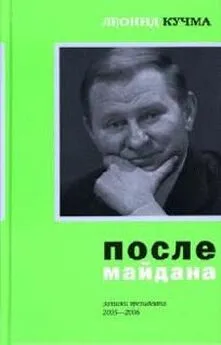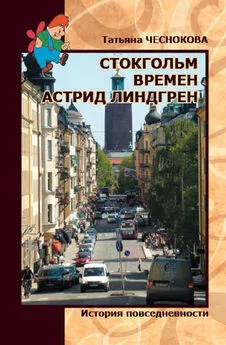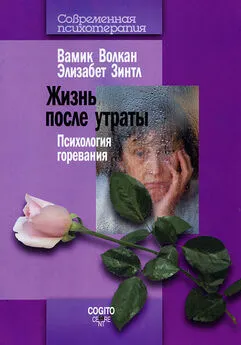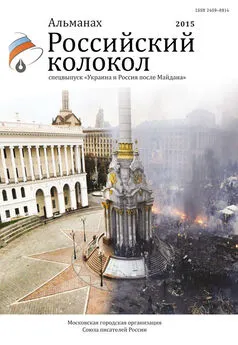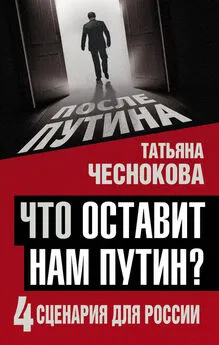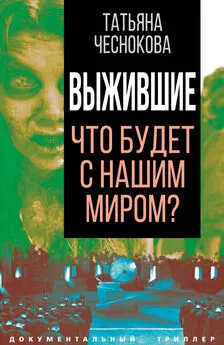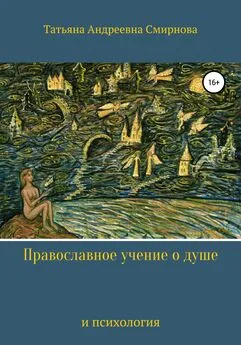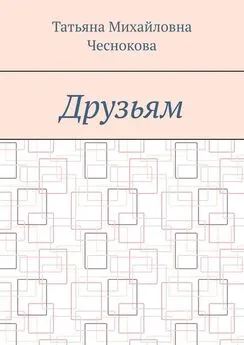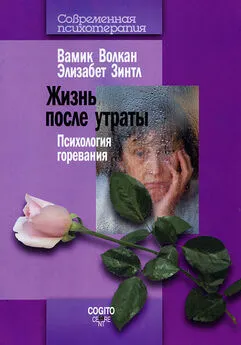Татьяна Чеснокова - Путин после майдана. Психология осажденной крепости
- Название:Путин после майдана. Психология осажденной крепости
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0803-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Чеснокова - Путин после майдана. Психология осажденной крепости краткое содержание
Татьяна Чеснокова – известный российский журналист, автор актуальных политических и аналитических произведений о событиях в России и мире, постоянный ведущий политической рубрики в крупнейшем информационном агентстве Росбалт. ру.
В своей книге Татьяна Чеснокова доказывает, что мы в очередной раз отстроили систему, в которой верховное лицо единолично творит историю, исходя из собственных соображений. В результате российское общественное сознание откатилось на десятки лет назад, вернувшись к психологии осажденной крепости и жесткому делению на «своих» и «чужих». Враги народа, национал-предатели, пятая колонна – все эти выражения опять вошли в употребление, пишет автор.
Как повлияли на политику Путина «фактор олимпиады» и украинские события, как чувствует себя в сложившейся ситуации российская политическая элита, почему в ней не оказалось ни одного человека со своим собственным голосом, – автор подробно останавливается на этих и других важных вопросах современной российской жизни.
Путин после майдана. Психология осажденной крепости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Можно только удивляться, что вопрос об этом не ставят специалисты соответствующих ведомств. Им, по-видимому, гораздо интереснее делить и перераспределять деньги пенсионного фонда.
У нас нет другого выхода, кроме как начать формирование многоформатного, объемного рынка труда, который будет ориентирован не только на молодых людей в расцвете сил, процентная доля которых в общей массе народонаселения постоянно сокращается, но и на людей в возрасте 40+ и 60+, и на молодых мам, нуждающихся в частичной занятости, и на людей с ограниченными возможностями. Ничего невероятного в этом нет.
Вот когда у нас появятся рабочие места с 20-часовой, двухдневной и трехдневной рабочей неделей, заточенные под людей, которым, возможно, трудно таскать шпалы и бегать по лестнице, но которые могут принести огромную пользу на работах, требующих систематичности, стабильности, спокойствия, аккуратности, тогда можно будет говорить о повышении пенсионного возраста, а возможно, и вообще об отмене пенсии по возрасту как института. Если у человека будет возможность работать 2–4 часа в день и чувствовать, что он делает нужное, полезное дело и при этом получает за это достойную оплату, то зачем ему отказываться от такой жизни и переходить на тупое сидение дома у телевизора?
Люди мечтают о пенсии, потому что от них – пятидесяти-шестидесятилетних – требуют выполнять нормативы, которые установлены для молодых. И это отражение нашей общественной дикости.
Существует миф, что мужчины у нас массово не доживают до пенсии. Это не совсем так. В России огромная смертность мужчин молодого и среднего возраста. А вот те мужчины, которые достигли 60 лет, в среднем доживают до 74 лет (это цифры нескольколетней давности, сегодня, наверное, и дольше). И для любого из них уход на пенсию – колоссальный стресс. Если бы вместо резкого прерывания работы люди последовательно, начиная, скажем, с 50 лет, переходили на более мягкий режим работы, они могли бы и работать на общую пользу дольше, и жить дольше и гораздо более наполненной жизнью.
Как это ни невероятно, но мы в силах управлять своим возрастом. Не с помощью машины времени или чудо-таблеток, или генной инженерии, а с помощью установки на долгую продуктивную жизнь и грамотно выстроенной цепочки целей. Некогда советский, а ныне американский психолог Александр Кроник разрабатывает теорию психологического времени личности. Эта теория имеет ярко выраженный практический аспект. Она учит управлять своим психологическим возрастом. Чем больше у вас в будущем целей, над которыми вы работаете в настоящем, тем меньше ваш психологический возраст. Долговременные планы продлевают жизнь, наполняя будущее смыслом. Пошел учиться – осваивать новую специальность, новый навык, новый язык – стал психологически моложе, потому что получил новые цели в будущем.
Отправляя на пенсию людей «по возрасту», мы состариваем их, лишая дерева профессиональных целей. Целая сфера жизни «отсыхает» и перестает давать стимулы для поддержания активности и бодрости! Общество с десятками миллионов «пенсионеров по старости» не должно так наплевательски относиться к скрытому потенциалу четверти своих граждан!
Необходимо менять общее отношение к возрасту в целом, внедряя новый, позитивный образ зрелого возраста, в том числе с помощью средств массовой информации. Интеграция пожилых людей в профессионально-деловую сферу станет возможной лишь тогда, когда старость в современном обществе перестанет рассматриваться как своего рода болезнь, будет реабилитирована в качестве нормального, полноценного, естественного и вполне продуктивного периода жизни. Тогда и сами пожилые и очень пожилые люди будут относиться к себе иначе, стремиться поддерживать себя в физической и интеллектуальной форме, участвовать в социальной жизни.
Нельзя сказать, что тема пересмотра всей сложной структуры трудового рынка и тесно с ним связанной пенсионной системы вообще вне внимания специалистов. Некоторое время тому назад в Нижнем Новгороде прошла международная социологическая конференция «Старшее поколение в современной семье», которая затронула широкий круг вопросов жизни пожилых людей в современном обществе, в том числе и «вопрос ресурсности старшего поколения». Немецкий ученый Боссонг Хорст нарисовал детальную и во многом драматическую картину проблемы старения в Германии. Согласно немецкой системе, пенсионные вычеты работающих обеспечивают ныне живущих пенсионеров, а не пенсию самих работающих. Если в 1991 году одного пенсионера обеспечивали четверо работающих, то в 2006 году их уже стало трое, а к 2030 ожидается, что останется только двое. К 2050 году, предположительно, большую часть германского населения будут составлять люди в возрасте от 50 до 80 лет. Хорст подчеркнул, что изменение демографической ситуации порождает напряженные отношения между поколениями и, возможно, рост скрытого насилия по отношению к пожилым, однако эти данные являются закрытыми. Правительство видит единственный выход в постепенном уменьшении пенсий, которые в середине семидесятых составляли около 50 % от зарплаты, а к 2018 году будут составлять около 42 %. По его мнению, пенсии снижались бы гораздо быстрее, если бы пожилые люди не являлись огромным отрядом избирателей. По мнению ученого, в ближайшем будущем немецкие города претерпят существенные изменения – они будут приспосабливаться под пожилое большинство, и это может повлечь изменения как в инфраструктуре, так и в культурной жизни. Никаких кардинальных решений проблемы в Германии не видят, скорее, надеются, что как-нибудь все утрясется.
А вот в докладах российских участников содержались новые подходы к феномену возраста. Доктор экономических наук, сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Валентина Доброхлеб сделала акцент на том, что старение надо воспринимать как естественный процесс, начинающийся практически с рождения, людей надо учить нормально воспринимать возрастные изменения и одновременно учить самосохранительному поведению. О последнем – самосохранительном поведении – умении и желании поддерживать себя в физической и интеллектуальной форме говорилось очень много и с большой тревогой. Люди в России абсолютно не нацелены на самосохранение – повторяли чуть ли не все выступающие. Жизнь человека – непрерывный процесс, и разбивать этот процесс искусственным образом на продуктивные и непродуктивные периоды неверно. Каждый период может быть продуктивным, надо только и человеку, и обществу уметь извлечь эту продуктивность. Интересные данные привел главный специалист-эксперт отдела статистики населения Нижегородстата Евгений Малышев. Эти данные свидетельствуют, что низкая продолжительность жизни в России во многом обусловлена психологическим дискомфортом и дезориентацией. Так, в 1998 году, во время дефолта, резко выросла смертность, причем среди людей среднего и даже молодого возраста. Пожилое население, дожившее до дефолта, оказалось психологически закаленным. В 2006–2007 годах смертность в Нижнем Новгороде снижалась, а вот в 2008-м опять пошла вверх.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: