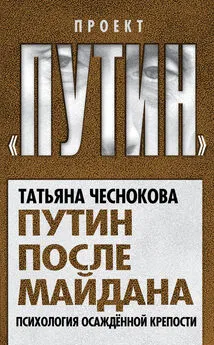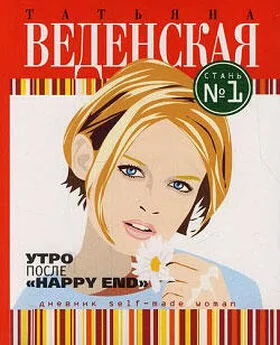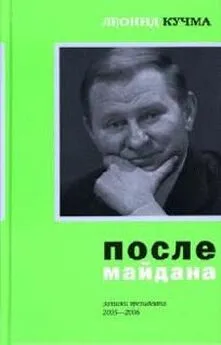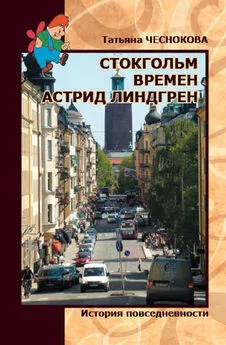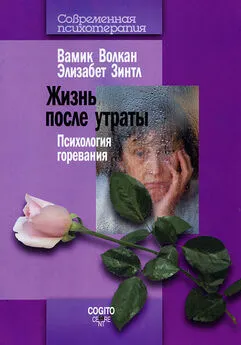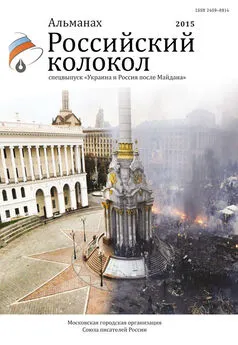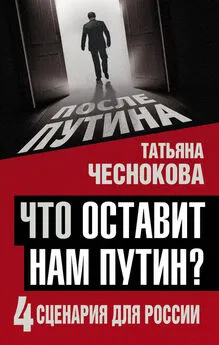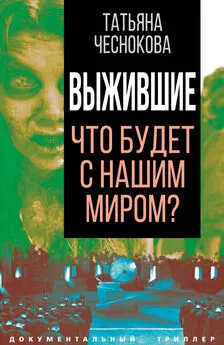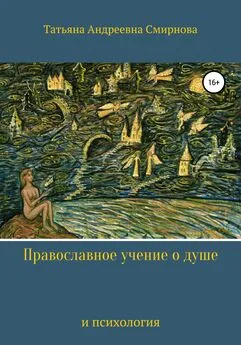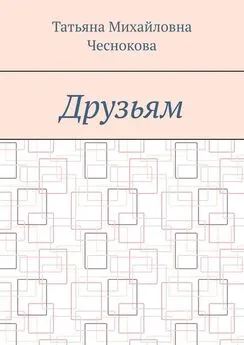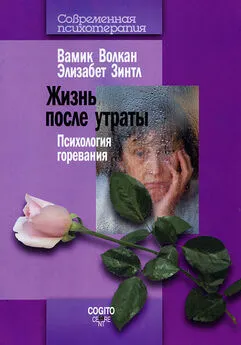Татьяна Чеснокова - Путин после майдана. Психология осажденной крепости
- Название:Путин после майдана. Психология осажденной крепости
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Алгоритм»1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4438-0803-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Чеснокова - Путин после майдана. Психология осажденной крепости краткое содержание
Татьяна Чеснокова – известный российский журналист, автор актуальных политических и аналитических произведений о событиях в России и мире, постоянный ведущий политической рубрики в крупнейшем информационном агентстве Росбалт. ру.
В своей книге Татьяна Чеснокова доказывает, что мы в очередной раз отстроили систему, в которой верховное лицо единолично творит историю, исходя из собственных соображений. В результате российское общественное сознание откатилось на десятки лет назад, вернувшись к психологии осажденной крепости и жесткому делению на «своих» и «чужих». Враги народа, национал-предатели, пятая колонна – все эти выражения опять вошли в употребление, пишет автор.
Как повлияли на политику Путина «фактор олимпиады» и украинские события, как чувствует себя в сложившейся ситуации российская политическая элита, почему в ней не оказалось ни одного человека со своим собственным голосом, – автор подробно останавливается на этих и других важных вопросах современной российской жизни.
Путин после майдана. Психология осажденной крепости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
У нас схожую задачу пытались решить в ходе Октябрьской революции и строительства социализма. Но, как становится очевидным сегодня, сделать это не удалось. Обаяние и восхищение аристократией (в широком смысле) продолжает пронизывать наше общество, сопровождаясь пренебрежением к обычному каждодневному труду, старательности, методичности, простоте. Как говорят в психологии, «это не переработано».
70 лет попыток насильственно привить уважение к простому труженику закончились вопиющим провалом: рядовой работник – самая пренебрегаемая и незамечаемая фигура нашего общества. Вот какой-нибудь криминальный авторитет, или политтехнолог, или олигарх – это да! Даже бомжам – и тем уделяется больше внимания: вслед за певцом бури Алексеем Максимовичем в фигуре оборванца видят вызов обществу размеренной обыденности.
Недавно прочитала книгу одного из лидеров евразийства. Поэтическую, романтическую, возвышенную. Красной нитью в ней проходит воспевание героев – тех, кто живет мечтой, страстью, полетом. В пику пошлым буржуа, стригущим купоны и чахнущим над златом.
Но ведь и оппоненты евразийцев, приверженцы западного пути, тяготеют к элитаризму, умилению избранными, презрению к планктону и быдлу или, говоря словами одной из выразительниц элитарного потребленчества, – к лохам. Яркий пример – недавние митинги и демонстрации. С каким удовольствием было принято митингующими обозначение «креативный класс». С какой готовностью повелись они на деление общества на две части – продвинутых высокоинтеллектуальных «своих» и примитивных недопросвещенных «чужих»!
Разумеется, в обществе, а также в стаде и в стае, всегда есть иерархия – так устроена жизнь высших позвоночных на нашей планете. Но общество, стадо и стая могут быть жизнеспособны только в том случае, если более сильные и энергичные особи, стоящие на верху иерархии, обеспечивают распределение ресурсов, которое устраивает большинство. Более того, «вышестоящие» особи имеют цену только до той поры, пока есть большинство, на которое они опираются и без которого они – ничто. Как только аристократия, элита, лидеры, вожаки, паханы и пр. начинают присваивать себе слишком много ресурсов, сообщество неминуемо теряет устойчивость и гибнет.
Неуважение и пренебрежение к большинству, к общему, к общественному вообще каким-то образом глубоко проросло в плоть российского архетипического мышления, и реформировать эту установку, видимо, будет очень трудно. Люди у нас не любят начинать снизу, с себя, с изменения повседневного, предпочитая сразу браться за решение глобальных задач – скажем, свергнуть верховную власть. Это как-то более ярко, вдохновляюще и масштабно. Не то что навести порядок у себя в районе. Однако мы нуждаемся в реформировании тела, а не снесении головы. Пока не приведем в порядок тело, голова каждый раз будет нарастать одна и та же – несимпатичная.
Несколько лет назад мы перестраивали дачу, все работы выполняла бригада из трех жителей соседнего поселка – отец лет пятидесяти и двое его сыновей двадцати с небольшим. Втроем они могли сделать все – от фундамента до электропроводки и водопровода. Были пунктуальны, аккуратны, никогда я не видела их «употребившими горячительные напитки», никогда не слышала, чтобы они перебросились грубым словом, каждый день приезжали к девяти и заканчивали в семь. Все, что они сделали, оказалось прочно, надежно и удобно.
Увы, таких людей, мастеров обыденного, но очень нужного дела, уважающих свой труд и самих себя, в России становится все меньше. У нас много крикунов, дебоширов, фанатиков, ну и «креативного класса» – специалистов по рекламным слоганам и одежде для собачек… Эти люди тоже нужны. Но базовый скрепляющий слой общества – это так называемые рядовые работники. Без изменения отношения к обычному повседневному труду и людям, которые делают необходимую повседневную работу, общество не может ни быть стабильным, ни развиваться.
Приложение
Сигналы будущего
(интервью с авторами интересных проектов и идей)
Новый проект для России
России нужен новый глобальный проект, чтобы со временем не превратиться в слабое третьесортное государство. О том, что могло бы лечь в основу этого проекта, в интервью «Росбалту» рассуждает этноконфликтолог, представитель Центра Льва Гумилева в Петербурге Виталий Трофимов-Трофимов.
– Немало людей полагает, что процесс распада, начавшийся с развала СССР, еще не закончен. Как его остановить?
– Ощущение распада определяется двумя вещами. Во-первых, у нас нет внятного проекта страны, который помогал бы людям ориентироваться – куда движемся, с чем сверять курс и собственные установки. Во-вторых, мы не можем определиться с основой нашего государства. СССР был государством рабочих, он был создан на классовой основе, и национальная принадлежность в этой системе координат была уже вторична. Сегодня в основе государства лежит вроде бы нация. Но когда говорят «нация», это воспринимается большинством как этническая идентичность, и тут же со всех сторон, от разных этносов раздаются крики: «Нация – это мы». Это работает на развал.
Сегодняшняя Россия – это государство постфактум, то, что осталось после того, как отвалились другие республики. Сейчас у нас пересменок: мы отдыхаем от великого проекта, который реализовывали в XX веке. Но если мы хотим сохраниться как цивилизация, большая страна, должен быть начат новый проект. Надо провести разборку постсоветских завалов и сборку на новых основаниях.
– А вам кажется, у нас как у народа еще остались цивилизационные амбиции?
– Мы проводили исследование на эту тему в 2007 году. И на основе результатов могу сказать, что амбиции есть. Во всяком случае, были шесть лет назад – и не думаю, что ситуация сильно изменилась. А вот проектов мобилизации, исторического творчества – нет. Неопределенность будет сохраняться до тех пор, пока не наступит серьезный экономический кризис, который, весьма вероятно, приведет к концу периода национальных государств. Есть мнение, что капитализм закончится с последней бочкой нефти, а национальное государство тесно связано именно с капиталистической системой. Последняя бочка нефти отнюдь не за горами. Тогда наступит очередной передел, время новых государств, и хорошо бы Россия к тому времени была государством, сохранившим потенциал развития с творческим и по-хорошему амбициозным народом.
– Вы предлагаете обратиться к региональным культурам. Но ведь народная культура у нас, мягко говоря, мало популярна. Как вам видится это обращение к истокам?
– Народная культура крепка, когда к ней идет обращение в реальной жизни. Скажем, по Книге перемен в Китае до сих пор гадают – и о своей судьбе, и о крупных государственных проектах. Людям это интересно. У нас же такой вписанности в жизнь национальной культуры нет. И этим надо заниматься – что-то возрождать, что-то придумывать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: