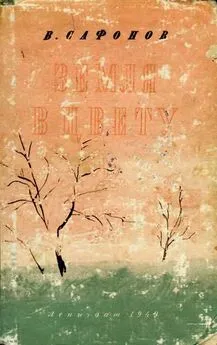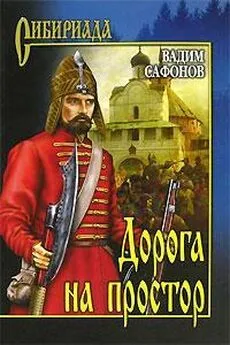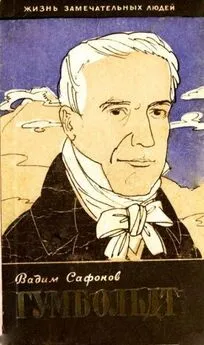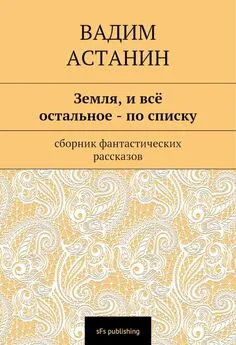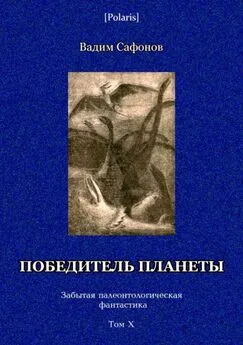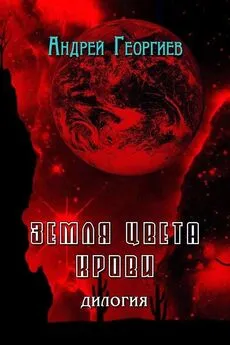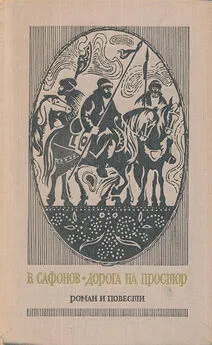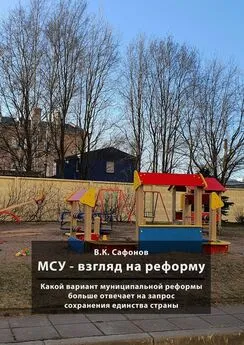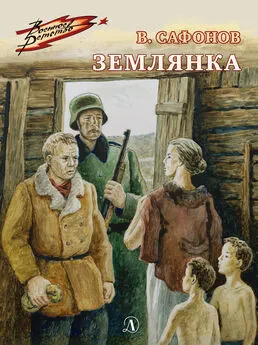Вадим Сафонов - Земля в цвету
- Название:Земля в цвету
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1949
- Город:Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Сафонов - Земля в цвету краткое содержание
Эта книга рассказывает, как в жестокой борьбе с мракобесием и лженаукой создавалась наука о человеческой власти над живой природой; о корифеях русского естествознания Тимирязеве, Докучаеве, Мичурине, Вильямсе; о советской агробиологической мичуринской науке и разгроме менделизма-морганизма. Книга говорит о работах ученых-мичуринцев с академиком Т. Д. Лысенко во главе, о чудесных победах на колхозных полях, об изменении природы нашей страны по сталинскому плану и о небывалой в истории массовой, народной науке, возникшей в СССР.
Земля в цвету - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Касты! Увы! Даже в современной Индии строгость кастового устройства под угрозой.
И профессору Гексли невесело.
Он умозаключает:
ученый создает и хранит бесценную коллекцию;
ученый голоден; что сделает ученый?
Ученый, естественно, съест бесценную коллекцию.
Вот железный силлогизм доктора Гексли, способный порадовать самого Леви-Брюля, усерднейшего собирателя образчиков «первобытного мышления»!
«Наука в СССР» Дж. С. Гексли напечатана в журнале «Nature», 1945 год, том 156, № 3957, стр. 254–256.
А почти немедленно следом за тем в том же томе, № 3979, стр. 622, тот же академический и «объективный» журнал «Природа» сделал следующий шаг: вдохновленный уничтожением части единственной в мире коллекции, он решил вовсе покончить с нею. И вот что мы прочли: «Во время блокады Ленинграда остатки ее были съедены…» Остатки? Расшифровки нет. Только намек. Но вполне иезуитский. Пусть поймут, что, мол, уже и раньше, до всякой войны и блокады, большевики «подбирались» к единственной в мире, к своей собственной коллекции и начали ее истреблять.
«Харланд и Дарлингтон» — стоят подписи под этой новой статьей. Тот самый генетик Харланд, который, возродив в Перу вырожденный сорт хлопчатника методом, разработанным советскими учеными-мичуринцами, забыл упомянуть, чей это метод. Тот самый генетик Дарлингтон, который, отлично зная, чем обязаны поля главного земледельческого доминиона его империи — Канады — нашим хлебным злакам, а сады Канады — мичуринским сортам, не постеснялся заявить, что Мичурин… вывез свои сорта из Канады, что Лысенко («неизвестный работник сельскохозяйственной научно-исследовательской станции на Украине») о яровизации «по-видимому, услышал из германских источников», что Тимирязев следовал в своих открытиях… Вильяму Оккаму, английскому схоласту XIV века!..
Великий жизнелюбец, непоколебимо веривший в человека и дело его на земле, М. Горький, написал: «Человек — это звучит гордо». Но он же знал: «Рожденный ползать, летать не может».
Ползунам непонятен и ненавистен высший полет человеческого духа — творчество. С каким завистливым злорадством стремятся они принизить, оплевать его! Ничего не было. Все знал Вильям Оккам в XIV веке.
Особенно же ненавистна им та страна, где самое свободное и самое человечное творчество стало законом жизни. Мичурин один создал сотни новых растений, одержав наиболее гордую победу над природой? Нет, «легче предположить, что он получил свои лучшие растения из Канады и США». А еще легче предположить, что именно простейший инструмент самонаблюдения — зеркало — мог привести С. Д. Дарлингтона, F. R. S. (члена Королевского общества) к согласию с Гексли в оценке людского рода и к одобрению теории человеководства.
Вот таким аршином они пытались измерить поведение ленинградских ученых. Сеяли клевету над еще свежими могилами погибших ради того, чтобы до зернышка была цела бесценная коллекция. С каким негодованием и возмущением читали лондонский журнал в Ленинграде!
Но ложь была слишком очевидной.
И «Природа» спустя некоторое время дала поправку. Всего несколько строк, без подписи. «Вносится поправка» — так и написано. Оказывается, ничего не съедено, — наоборот, много сотрудников института было убито или умерло от голода, охраняя коллекцию… Маленькая поправочка — ошиблись, ничего не поделаешь…
А все ли заметят эти несколько строк, после двух статей, содержащих две ступени лжи, — разве это важно?!
ПОДВИГ
Вот что было в Ленинграде.
Один из самых последних составов, пробившихся из Москвы к осажденному городу, был эшелон моряков. С этим эшелоном приехал в Ленинград уполномоченный Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина профессор И. И. Презент, нынешний академик.
Больше в Ленинград не приходило поездов.
Легко понять, что тогда, в августе 1941 года, означал каждый вагон, который еще мог быть отправлен из Ленинграда. Но чуть явилась надежда, что проскочит, пробьется еще состав, еще один единственный поезд, как в нем отвели вагоны для Всесоюзного института растениеводства и его коллекций.
Поезд тронулся и стал. Объявили: можно пока расходиться по домам. Из теплушки вышел Эйхфельд, отказавшийся от привилегии ехать в «классном». Институтское имущество было погружено в открытые вагоны — их прозвали шаландами. Все ежедневно возвращались к эшелону. Мужчины поочередно дежурили у шаланд. Дальше Рыбацкого — станции под Ленинградом — состав не ушел.
Были уже черные ночи осени с ранними холодами. Враг рвался к Тихвину. Начинался голод в огромном отрезанном городе. На крыши института сыпались зажигалки. Заслышав сирены, лаборанты и доктора наук взбирались по крутой чердачной лестнице защищать здание.
Народу в институте прибавилось. Тут были и работники Пушкинской станции. Пальмова ушла из Пушкина в летнем платье, но с мешочками образцов своих опытных посевов. А. Я. Камераз на своих плечах спасал коллекционный картофель.
Коллективы обоих институтов-соседей — ВИРа и ВИЗРа (Всесоюзного института защиты растений) жили общей жизнью.
В тяжелом, грузном каменном здании был холод погреба. Ученые обмороженными пальцами перебирали в пакетиках зерна из мировой коллекции, чтобы рассредоточить каждый образец.
Лихвонен, заведующий отделом снабжения, получив свою тарелку «супа» — воды с несколькими листьями и корешками, сливал ее в баночку и с бесконечной осторожностью, держа вытянутыми руками, уносил пешком на Петроградскую сторону. Там жила его семья. Он возвращался горбясь.
Однажды он не пришел вовсе.
На улицах, на дне некоторых воронок от бомб сочилась вода из перебитых жил водопровода. Окрестные жители черпали ее ведрами. Потом она замерзала.
В конце 1941 года у бухгалтера Е. Ф. Арнольд, тридцать лет работавшей в институте, украли карточки. Когда она пришла на службу, на ней не было лица.
— Что с вами? — спросил ее Эйхфельд. Женщина, закутанная в платки, всхлипнула. — Что такое, ну что такое?
Она плакала молча.
— Ерунда! — сказал Эйхфельд. Он встал. Одежда, аккуратно выглаженная, висела на нем мешком. — Карточка? Я достану вам карточку. Мне дадут для вас… — Он рассердился. — Чепуха! Как можно… Успокойтесь. Успокойтесь же!
Он достал. Это была его собственная карточка. Себе он оставил пропуск в Дом ученых на набережной Невы, где подкармливали научных работников лилипутски-крошечными обезжиренными порциями, называя их «обедами».
Еще не существовало ледовой трассы через Ладожское озеро, «Дороги жизни». Воздух был единственным путем из Ленинграда на Большую землю. Воздух был единственной связью со страной города-гиганта и Ленинградского фронта, сдерживавшего бешеный натиск врага.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: