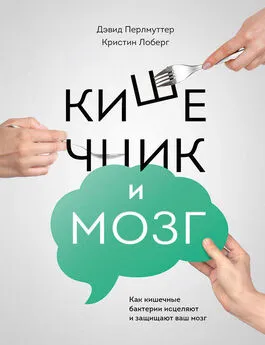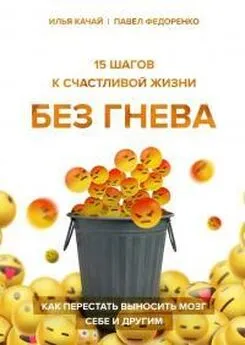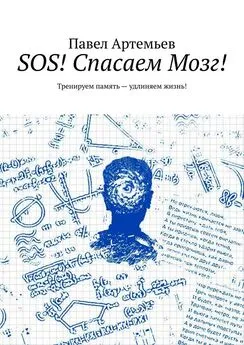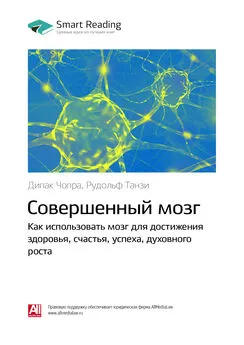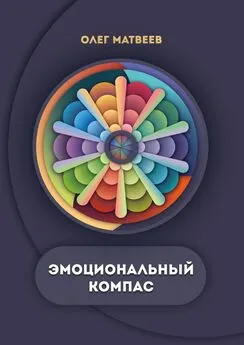Павел Симонов - Эмоциональный мозг
- Название:Эмоциональный мозг
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Питер
- Год:2021
- ISBN:978-5-44613-947-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Симонов - Эмоциональный мозг краткое содержание
Эмоциональный мозг - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Подсознание оперирует тем, что ранее осознавалось (автоматизация навыков) или может быть осознано в определенных условиях — непроизвольно зафиксированный в памяти материал, причина болезненного состояния, вскрытая самостоятельно или с помощью врача-психотерапевта и т. п. Процессы, содержащиеся в сфере сверхсознания, осознанию не подлежат, как мы в этом убедились на примере научного и художественного творчества. Подсознание имеет дело с тем, что уже хранится в структурах мозга. Благодаря сверхсознанию возникает нечто новое, ранее не существовавшее.
В процессе деятельности подсознания человек ориентирован «на себя»: автоматизированные и потому переставшие осознаваться двигательные навыки, энграммы непроизвольной памяти, конфликтующие с социальными нормами эгоистические побуждения — все это принадлежит исключительно данной личности как неповторимо индивидуальному существу. Сверхсознание, напротив, работает «для других», поскольку и познание и творчество превращается в бессмыслицу, если единственным обладателем истины оказывается только сам познающий субъект.
Итак, мы определили минимум пять критериев дефиниции под- и сверхсознания, позволяющих различать эти разновидности неосознаваемых проявлений отражательной деятельности мозга: 1) подсознательное может стать осознаваемым, сверхсознательное — нет; 2) подсознание обслуживает тенденции сохранения, сверхсознание — развития; 3) подсознание преимущественно связано с отрицательными эмоциями, сверхсознание — с положительными; 4) подсознание оперирует тем, что уже хранится в памяти. В процессе деятельности сверхсознания возникает новая комбинация энграмм; 5) подсознание ориентировано «на себя», сверхсознание работает «для других».
Ограничиваются ли функции сверхсознания как особой разновидности деятельности мозга его участием в процессах художественного и научного творчества? Или механизм сверхсознания имеет более универсальное значение для человеческой психики, для поведения человека в окружающей его социальной среде?
«Сверхзадача» поведения человека как функция его сверхсознания
Подсознание — сознание — сверхсознание… Не напоминает ли эта триада другую, также трехчленную структуру человеческой личности, постулированную Зигмундом Фрейдом: Оно — Я — Сверх-Я? Мы не склонны преуменьшать заслуги Фрейда ни в открытии важнейшей роли неосознаваемого психического, ни в формулировке внутренней противоречивости, присущей взаимодействию сознающего “Я” с обеими разновидностями неосознаваемого. И все же наши дефиниции под- и сверхсознания базируются на совершенно иных объективных закономерностях человеческой психики.
Согласно Фрейду, в основе ряда нарушений психической деятельности человека лежит конфликт между сферой биологических влечений (Оно) и требованиями общества, репрезентированными в психике индивида комплексом Сверх-Я. По отношению к суверенной личности Сверх-Я (и его производные: совесть, чувство вины и т. п.) выступают как репрессивное начало, как орудие подчинения индивида обществу, его запретам, его нормам, его велениям. Вот почему для рационального Я давление Сверх-Я оказывается не менее чуждым и опасным, чем темные импульсы Оно. Что же касается творческого начала в психической деятельности мозга, то оно возникает лишь как средство примирения противоборствующих сил Оно и Сверх-Я, между которыми в поисках компромисса мечется сознающее Я.
Сверхсознание не примирет конфликты, но обнаруживает их и ставит перед лицом сознания, как нечто требующее анализа, подтверждения или опровержения. Если функции подсознания связаны с «вытеснением», то есть переходом от сознания к неосознаваемому, то сверхсознание — это прорыв результатов деятельности интуиции в сферу сознания, апелляция к нему.
В системе потребностно-мотивационных координат подсознание оказывается на стыке биологических и социальных потребностей, а сверхсознание — в «зоне перекрытия» социальных и идеальных потребностей. Сразу же подчеркнем, что в первом случае мы имеем в виду не конфликт социально неприемлемых побуждений с нормами и запретами, налагаемыми обществом, но конфликт с потребностью субъекта следовать этим нормам, соответствовать им. Социально детерминированные нормы испытывают давление не только со стороны материально-биологических потребностей, но и со стороны идеальных потребностей. Результаты познавательной деятельности человеческого ума далеко не всегда совпадают с тем, что человек находит в окружающей его социальной действительности. О. Г. Дробницкий тонко заметил, что нравственность — это не сами нормы (табу, запреты, обычаи), присущие обществу, но отношение личности к этим нормам, к этим запретам и предписаниям. Нравственное возникает лишь при сопоставлении сущего с должным, точнее — с идеальным представлением о должном, как его понимает данная личность [Дробницкий, 1972, с. 109].
Под- и сверхсознание — детище потребностей, производное их сложного и противоречивого взаимодействия. Все учение 3. Фрейда построено на конфликте биологического (Оно) и социального (Сверх-Я), вот почему предметом его анализа оказалась лишь сфера подсознания. Категории сверхсознания нет места в системе представлений Зигмунда Фрейда, как нет в ней и самостоятельной группы идеальных потребностей. Поскольку область сверхсознания все же существует и обнаруживает себя достаточно наглядно, скажем, в сфере художественного творчества, Фрейду не оставалось иного выхода, как вновь обратиться к конфликту между биологическим и социальным, к «сублимированию» подавленных сексуальных влечений и тому подобной мифологии ортодоксального фрейдизма.
Не приходится удивляться, что, воссоздавая «жизнь человеческого духа», К. С. Станиславский закономерно пришел к представлениям о «сверхзадаче», «сверх-сверхзадаче» и «сверхсознании». Как великий художник, он просто не мог ограничиться подсознанием. Произвол толкования человеческих мотивов, поступков и сновидений, столь властно царивший на страницах психоаналитических трактатов, будучи перенесен на сцену, оказался бы той неправдой, которая без всяких логических доказательств воспринимается как несовместимая с истинным искусством. Достаточно вспомнить попытки трактовать шекспировского Гамлета в духе эдипова комплекса, чтобы понять, сколь примитивным выглядит подобный замысел по сравнению с идейным богатством великого творения.
Социальные потребности, выросшие из «общественного инстинкта» животных предков («общественный инстинкт был одним из важнейших рычагов развития человека из обезьяны» [Ф. Энгельс. Маркс и Энгельс. Сочинения, 1964, т. 34, с. 138], заняли доминирующее положение в структуре человеческой личности. Но это подчинение нормам социального окружения могло привести (и привело — вспомним о живучести «пережитков») к чрезмерной ригидности исторически преходящих норм, к угрозе возникновения субъективного чувства полнейшей безответственности, продиктованной убеждением, что за мои поступки отвечаю не я, но мои воспитатели, сформировавшая меня «среда».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: