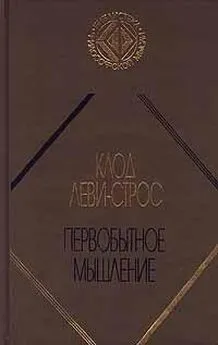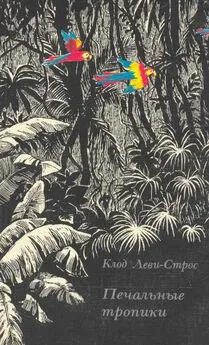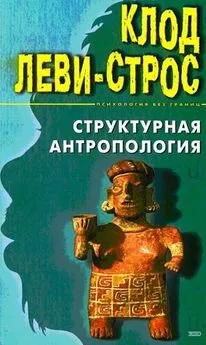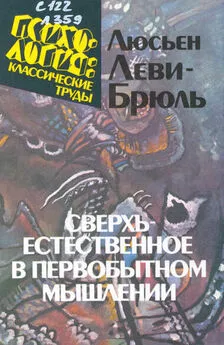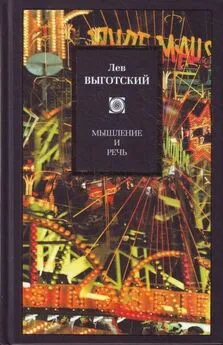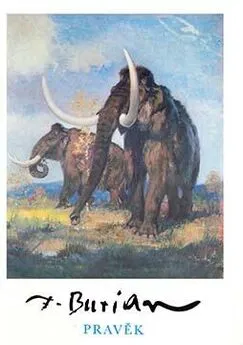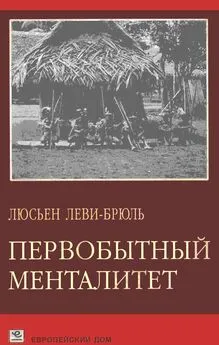Клод Леви-Строс - Первобытное мышление
- Название:Первобытное мышление
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Республика
- Год:1994
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Клод Леви-Строс - Первобытное мышление краткое содержание
Издание знакомит российского читателя с творчеством выдающегося представителя французского структурализма, этнографа и социолога Клода Леви-Строса (род. 1908). Исследуя особенности мышления, мифологии и ритуального поведения людей «первобытных» обществ с позиций структурной антропологии, Леви-Строс раскрывает закономерности познания и психики человека в различных социальных, прежде всего традиционных, системах, в культурной жизни народов. Среди публикуемых произведений такие широко известные книги, как "Тотемизм сегодня" и "Неприрученная мысль".
[[Требуется сверка с оригиналом. Отсутствует несколько схем и диаграмм. ]]
Первобытное мышление - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Несомненно, Конт приписал доисторическому периоду — векам фетишизма и политеизма — это "дикое мышление", которое для нас не является ни мышлением дикарей, ни мышлением первобытного или архаического человечества, но мыслью в диком состоянии, в отличие от мысли возделанной или одомашненной(41), с целью достичь упорядочения. Таковое возникает в определенных местах земного шара и в определенные моменты истории, и естественно, что Конт, лишенный этнографической информации (и этнографического чутья, которое приобретается только благодаря сбору информации такого рода и работе с ней), уловил первое в его ретроспективной форме, как вид ментальной деятельности, предшествующий прочим. В настоящее время мы лучше понимаем, что оба могут сосуществовать и взаимопроникать, как могут (или, по меньшей мере, вправе) сосуществовать и сталкиваться природные виды, одни — в диком состоянии, а другие — преобразованные земледелием и доместикацией, хотя, исходя из факта их развития и вообще условий, требуемых для этого, существование одних грозит другим вымиранием. Независимо от того, печалит ли это кого-то или радует, еще известны зоны, где дикая мысль, подобно диким видам, оказывается относительно защищенной: например, в области искусства, которому наша цивилизация придает статус национального парка, со всеми его выгодами и неудобствами, связанными со столь искусственной формулой; и особенно в стольких еще не распаханных секторах социальной жизни, где — от равнодушия либо неспособности, а чаще всего неизвестно отчего — дикая мысль продолжает процветать.
Исключительные характеристики этой мысли, называемой нами дикой, а Контом квалифицируемой как спонтанная, особенно выпукло предстают в тех целях, которыми она задается. Она претендует на то, чтобы быть одновременно аналитической и синтетической, доходить до своего крайнего предела в одном и в другом направлении, будучи полностью в состоянии осуществлять посредничество между обоими полюсами. Конт очень хорошо отметил аналитическую ориентацию: "Суеверия, даже те, что сегодня нам кажутся наиболее абсурдными… изначально обладали прогрессивным философским характером, как обычно способствовавшим энергичной стимуляции и постоянному наблюдению феноменов, исследование которых в ту эпоху не могло непосредственно вызвать никакого устойчивого интереса" (ibid., р. 70).
Ошибка в суждении, появляющаяся в последнем предложении, объясняет, почему Конт составил себе совершенно неверное представление о синтетическом аспекте: рабы "бесконечного разнообразия феноменов" и современные дикари, что, как считает он, подтверждает их "трезвое рассмотрение", пренебрегают какой бы то ни было "туманной символизацией" (р. 63). Однако "трезвое исследование современных дикарей", каковое и проводит этнография, отменяет по этим двум пунктам позитивистский предрассудок. Если дикая мысль определяется одновременно и поглощающим символическим устремлением, таким, что ничего подобного человечество уже никогда не испытывало, и скрупулезным вниманием, всецело обращенным на конкретное, наконец, имплицитным убеждением, что эти две установки не что иное, как одна, то не покоится ли как раз дикая мысль как с теоретической, так и с практической точки зрения на этом "неослабном интересе", силу которого Конт отрицает? Но когда человек наблюдает, экспериментирует и классифицирует и создает теорию, то он уже побуждается к этому отнюдь не произвольными суевериями и не капризами случайности, которой, как мы видели в начале данной работы, было бы наивным предназначать роль в открытии искусств цивилизации.
Если бы требовалось сделать выбор между двумя объяснениями, то мы предпочли бы объяснение Конта, но при условии предварительного освобождения от ложного умозаключения, на котором оно основывается. Действительно, для Конта любая интеллектуальная эволюция происходит из "неизбежного влияния теологической философии", то есть из той невозможности, в какой человек вначале оказался, интерпретировать природные феномены, не уподобляя их "собственным действиям, только относительно которых он, возможно, когда-то верил, что понимает существенное в способе производства" (ibid., 51-е lecon; IV, р. 347). Но как же могло быть, чтобы, совершая одновременный и инвертированный демарш, он не придал своим действиям силу и эффективность, сопоставимые с теми же чертами природных феноменов? Этот человек, экстериоризованный человеком, может служить моделированию божества, только если им уже интериоризированы силы природы. Ошибка Конта и многих его последователей состояла в том, что они полагали, будто человек мог населить природу волевыми существами, сопоставимыми с ним самим, без придания своим желаниям определенных атрибутов той природы, в которой он себя узнавал. Ибо если бы он начал лишь с ощущения своей силы, это никогда не обеспечило бы его объясняющим принципом.
Различие между практическим актом, наделенным продуктивностью, и магическим или ритуальным актом, лишенным действенности, не совпадает с определением их соответственно по объективной либо субъективной ориентации. Такое определение может показаться верным, если рассматривать вещи извне, но с точки зрения действователя отношение инвертируется: он представляет себе практическое действие как в принципе субъективное и центробежное по своей ориентации, поскольку оно происходит из-за его вмешательства в физический мир. Тогда как магическая операция кажется ему прибавлением к объективному порядку универсума: для того, кто ее совершает, она представляет такую же необходимость, как и цепочка естественных причин, куда, как полагает действователь, он лишь вводит дополнительные звенья в виде ритуалов. Таким образом, ему представляется, что он наблюдает данную операцию извне и как если бы она исходила не от него.
Такое уточнение традиционной перспективы позволяет исключить ложную проблему, вызываемую, для некоторых, «обычным» прибегани-ем к обману и мошенничеству по ходу магических операций. Ибо если система магии всецело покоится на веровании, что человек может вмешиваться в природный детерминизм, дополняя либо модифицируя его ход, то совершенно неважно, будет ли это вмешательство чуть больше или чуть меньше: обман неотделим от магии и, собственно говоря, колдун никогда не «жульничает». Различие между его теорией и практикой не по характеру, а по степени.
Во-вторых, проясняется столь дискуссионный вопрос, как отношение между магией и религией. Ибо, если в каком-то смысле можно сказать, что религия состоит в очеловечивании природных законов, а магия — в натурализации человеческих действий, то есть в истолковании определенных человеческих действий как составной части физического детерминизма, то здесь не идет речь об альтернативе или об этапах эволюции.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: