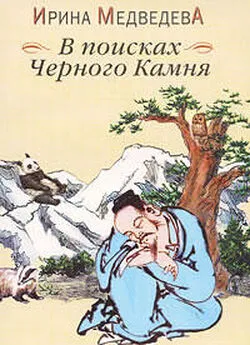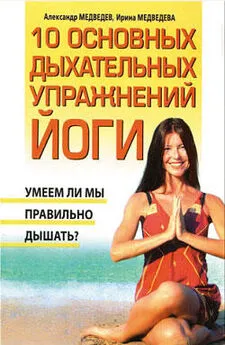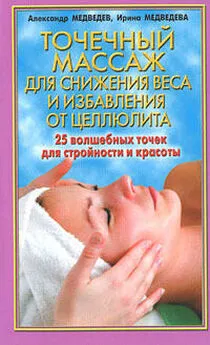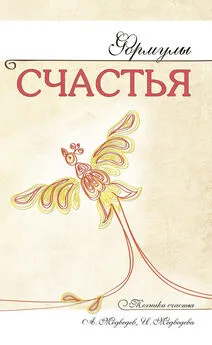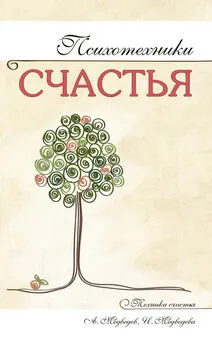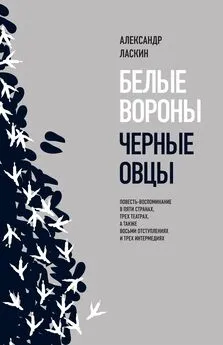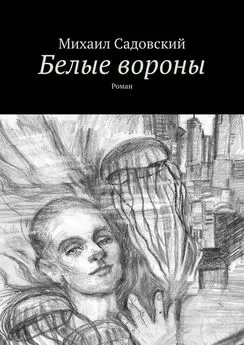Ирина Медведева - Разноцветные “белые вороны”
- Название:Разноцветные “белые вороны”
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ирина Медведева - Разноцветные “белые вороны” краткое содержание
Разноцветные “белые вороны” - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Эта система была изложена одним из «духов», с которым общалась родственница Юнга, самым детальным образом.
Юнг принялся исследовать мир снов, своих и чужих. Огромное внимание он уделял снам своих пациентов. И обнаружил, что человеческие сны буквально переполнены древнейшими символами. Эти символы присутствуют в сновидениях самых разных людей независимо от возраста, расы и социального положения. Получалось, что, когда человек бодрствует, память предков спит, а когда он засыпает, она пробуждается и властно напоминает о себе.
— Впрочем, память предков мы можем ощутить в себе, не только когда спим. Но если во сне «коллективное бессознательное» выражено в конкретных дарительных образах, то наяву это бывают смутные ощущения, настолько смутные, что их невозможно описать словами.
Человек, впервые севший на лошадь, будто узнает в себе что–то. И это «что–то» сообщает ему беспричинную радость и беспричинную отвагу. Казалось бы, чему уж так радоваться? А отвага у неумелого седока просто абсурдна. Ведь лошадь может сбросить на полном скаку — и костей не соберешь! Но дело, наверно, в том, что в этот момент происходит встреча. Встреча древнейшего спутника человека с древнейшим человеком, который живет в нас. В глубинах, быть может, — на самом деле нашей души. В нас пробуждается, по определению Юнга, а р х е т и п («архе» — первоначало).
Почему у потомственного интеллигента, городского жителя в четвертом поколении, пришедшего на фольклорный концерт, при первых же звуках казацкой песни может возникнуть чувство, будто ему все это знакомо и было знакомо всегда? Это в нем, как сказал нам один из таких интеллигентов, запели хором все его прадедушки–казаки.
А вот что писал великий польский педагог, легендарный директор Дома сирот Януш Корчак:
«…бывают дети, которые старше своих десяти лет… в крови их мозговых извилин скопилась мука многих страдальческих столетий. При малейшем раздражении имеющаяся в потенции боль, скорбь, гнев, бунт прорываются наружу, оставляя впечатление несоответствия бурной реакции (в данном случае Корчак имеет в виду ночной плач одного из своих подопечных) незначительному раздражению.
Не ребенок плачет, то плачут столетия, причитают горе да печаль не потому, что он постоял в углу, а потому что и х (разрядка наша) угнетали, гнали, притесняли, отлучали».
А помните хрестоматийную сцену из «Войны и мира», где Наташа Ростова в гостях у дядюшки пускается в пляс?
«Где, как, когда всосала в себя… графинечка, воспитанная эмигранткой–француженкой, — этот дух, откуда взяла она эти приемы?.. — восхищенно вопрошает Толстой. И добавляет: Но дух и приемы были те самые, неподражаемые, неизучаемые (разрядка наша), русские…»
Откуда? А все оттуда же! Звуки народной песни в артистическом вдохновенном исполнении дядюшки (тоже, между прочим, не крестьянина, а дворянина) пробудили в Наташе национальный архетип.
Юнг, правда, считал, что общеродовая психика, как и психика индивидуальная, передается генетически, наследуется. Мы думаем, что это не совсем так. Очень многое, как нам кажется, в том числе и неосознанное пристрастие к чему–то и отталкивание от Чего–то, зависит от культуры, в которой живет человек. Причем, говоря «культура», мы в данном случае подразумеваем общую атмосферу, так сказать, культурный воздух.
Мир, в котором мы живем, полон трудноуловимых «напоминаний». Старинные песни — это, конечно, сильный удар по родовой памяти. Его можно сравнить с ударом грома. Но есть множество других напоминаний, не таких сильных и конкретных, но зато постоянных. Они–то и воспитывают душу, насыщают ее животворными импульсами. Это камни, топтаные миллионами ног, это дома и деревья, запахи и выражения лиц…
А еще культурная атмосфера складывается из великого множества общенациональных привычек, обрядов, традиций.
Казалось бы, какая разница — как поздороваться, какой вопрос задать при встрече? Назвать старшего на «вы» или на «ты»? Подумаешь, пустая условность! Но в том–то и дело, что условность никогда не бывает пустой. Она всегда наполнена содержанием. Тем или другим.
Скажем, нашим школьникам даже в голову не придет «тыкать» учителю. А вот американскому мальчику который уже целый год прожил в России и прекрасно знает, что значит «вы» и что значит «ты», все равно непонятно, зачем обращаться к взрослому на «вы». Условность? Мелочь? На первый взгляд, да. Но за ней стоит целая система отношений.
Разве можно себе представить в нашей школе сцену, которую мы видели в одном американском фильме?
Учительница приходит в класс. У нее только что трагически погиб отец (его зверски убили). Она ведет урок. Очаровательные дети лет семи–восьми доброжелательно ее слушают. Внезапно веснушчатая девочка поднимает руку, встает и спрашивает:
— Правда, что твоего папу убили?
— Правда, — с невозмутимой улыбкой отвечает учительница.
Довольная ответом девочка садится, а учительница продолжает объяснять урок. Через пару минут малышка опять тянет руку:
— Послушай, а как именно его убили: из ружья или из пистолета?
— Его зарезали ножом, — спокойно удовлетворяет детское любопытство учительница…
Условности создают условия. В данном случае условия обучения, которое у нас немыслимы без иерархии «учитель–ученик» (недаром педагоги не любят сами натаскивать своих детей, а предпочитают нанимать репетиторов).
А вот еще пример. И для большей последовательности в том же «американо–русском» ключе.
Что говорит девочка, оказавшись у постели матери, только что перенесшей тяжелую операцию?
— Как ты себя чувствуешь, мамочка? Тебе очень больно?
Это у нас.
А в Америке вполне любящая дочь (если не верите, посмотрите американские фильмы!) спросит:
— Ну как, мам? С тобой все в порядке? И тут же начинает говорить о совершенно посторонних вещах.
Ну а это уже не из фильма; У нашей знакомой русской женщины, волею судеб оказавшейся в Америке, скоропостижно умер муж. На следующий день после похорон она вышла на работу. И сослуживцы, осведомленные о ее трагедии, участливо поинтересовались:
— Ольга, у тебя все о'кей?
— А теперь мы поинтересуемся: вам захотелось бы в ответ на такое участие поделиться своим горем, как принято у нас?.. (Заметим в скобках, что у американцев и не принято жаловаться и вообще изливать душу. Не только сослуживцам — даже близким друзьям.)
Случайно, что в одной стране, у одного народа одни культурные устои, а в другой стране, у другого народа — иные? Конечно же, нет. За множеством условностей проглядывает определенный национально–культурный архетип — та первооснова, те фундаментальные черты, которые роднят самых разных людей, живущих в одной стране и говорящих на одном языке.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: