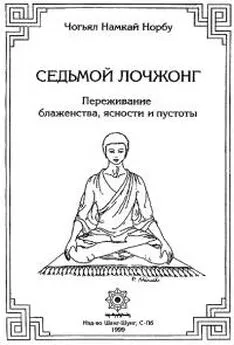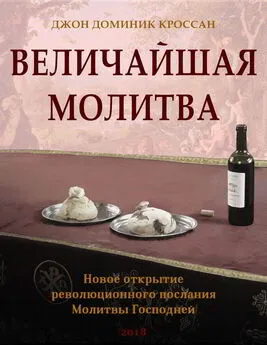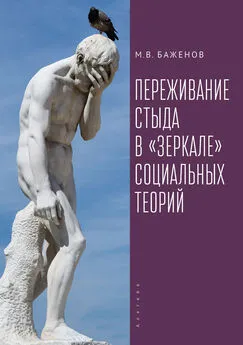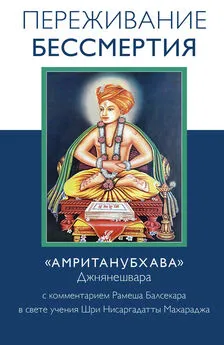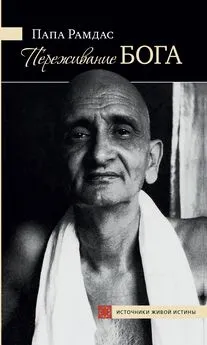Федор Василюк - Переживание и молитва
- Название:Переживание и молитва
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Смысл
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Федор Василюк - Переживание и молитва краткое содержание
Что делать, когда сделать ничего нельзя? В ситуации кризиса, на переломе судьбы человеку предстоит совершить большой душевный труд — принять неиз-бежное, осмыслить случившееся, нащупать новые опоры существования. Что¬бы научиться оказывать человеку психологическую и духовную помощь, важно понять, какую роль в его поисках выхода из кризиса играют процессы переживания и молитвы, каковы их взаимопереходы и взаимовлияния. Поиск ответов на эти вопросы ведется с позиций общепсихологической теории, которая строится на фундаменте синергийной антропологии. Специалистам-гуманитариям и всем, интересующимся вопросами человечес¬кой духовности.
Переживание и молитва - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Переживание есть долгая и сложная работа души в ответ на ситуацию невозможности. В этой работе есть свои ритмы и фазы, взлеты и падения. Вся ситуация невозможности жизни, невозможности деятельности, вызывая переживание, предрасполагает и к молитве, но в особенности естественно молитва вырывается из души в экстремальных точках переживания,
ромной безличной вселенной, одиноким, без малейшей надежды на спасение…Именно из этого ощущения поражения и возникает молитва. По Нахманиду, кризис вызывается внешними обстоятельствами и возникает независимо от самого человека. Он приходит откуда-то извне и, как правило, обрушивается совершенно неожиданно» (Гам же, с. XXXII–XXXIII). Мы видим, что кризис может мыслиться как «внешний», вызываемый социальными, экономическими и другими причинами, а может пониматься как «внутренний», экзистенциальный, который «коренится в самой сути человека, в его метафизических началах» (Гам же, с. XXXIV), но с общепсихологической точки зрения важно, что в обоих случаях традиция усматривает существенную связь между кризисом и молитвой. в глубочайших «эмоциональных колодцах», когда и жизнь невозможна, и переживание становится невозможным. Разумеется, здесь нет той строгой натуральной закономерности, при которой мы могли бы сказать: невозможность переживания является необходимым и достаточным условием порождения молитвы. Молитва может возникать и без этого условия, и не обязательно возникает при его наличии. И тем не менее нельзя считать случайностью, что часто именно на самом дне страдания, в точке последнего отчаяния с душой происходит неожиданная метаморфоза и в ней возникает молитвенный порыв. Не зря описание состояния «отчаяния» сопровождается чаще всего образами «глубины» и «мрака». Отчаяние само не рождает молитву, но, быть может, «глубина отчаяния» обнажает недоступные в обыденных состояниях внутренние духовные родники, а «мрак отчаяния» становится фоном, на котором душа успевает заметить и мельчайший проблеск надежды — и всею силою отозваться на него не расчетом и планом, а мольбой. Видя, как из пепелища человеческой судьбы вдруг возгорается молитва, даже и у человека вовсе нерелигиозного, трудно удержаться от мысли, что молитва — это не выученное, искусственное действие, а спонтанное проявление духовного организма, такое же естественное, как дыхание. Оно лишь было подавлено искусственными усилиями — и вот на изломе жизни выпархивает из-под корки обыденности, словно дав воздуха чуть было не погибшему организму [8] Эти общепсихологические гипотезы о рождении молитвы в кризисных состояниях находят свое подтверждение в еврейской религиозной традиции. Хотя в ней существует две линии отношения к молитве — как к обязанности (Маймонид) и как к привилегии (Нахманид), обе они сходятся в том, что «молитва осмысленна лишь тогда, когда возникает из ощущения цара (беды)» (Соловейчик, 1994, с. XXXII). Впрочем, само это понятие «цара» мыслится по-разному. «Маймонид воспринимал саму повседневную жизнь как постоянную экзистенциальную борьбу с несчастьями, вызывающими у восприимчивого человека чувство отчаяния, размышления о бессмысленности жизни, абсурдности происходящего, безрезультатности. Это устойчивое ощущение цара, существующее постоянно…Человек воспринимает себя безнадежно запутавшимся в ог-
.
ромной безличной вселенной, одиноким, без малейшей надежды на спасение…Именно из этого ощущения поражения и возникает молитва. По Нахманиду, кризис вызывается внешними обстоятельствами и возникает независимо от самого человека. Он приходит откуда-то извне и, как правило, обрушивается совершенно неожиданно» (Гам же, с. XXXII–XXXIII). Мы видим, что кризис может мыслиться как «внешний», вызываемый социальными, экономическими и другими причинами, а может пониматься как «внутренний», экзистенциальный, который «коренится в самой сути человека, в его метафизических началах» (Гам же, с. XXXIV), но с общепсихологической точки зрения важно, что в обоих случаях традиция усматривает существенную связь между кризисом и молитвой.
Однако не только из глубины безысходности, но и с вершин ликования изливается молитва [9] «Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с веселием; идите пред лице Его с восклицанием!» (Пс 99:1–2), «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселия моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой!» (Пс 42:4) — не может сдержать молитвенных восклицаний псалмопевец.
. В провалах и тупиках жизнь лишается необходимого, и человеку невозможно исправить ситуацию прямым действием. Но есть и совсем другие ситуации невозможности, их тоже нельзя разрешить целенаправленным актом деятельности. Это жизненные пики, вершины, нежданные избытки и приливы бытия. Их можно назвать ситуациями «сверхвозможности». Своим масштабом и значением они превосходят обыденную ситуацию задачи, которую можно решить, стимула, на который можно дать ответ. Каким действием можно ответить на радостную встречу, свершившееся открытие, щедрый дар, воцарившийся мир? Что можно сделать с немыслимым счастьем, нечаянной радостью, несказанной красотой?
Это тоже ситуации кризиса, поворота судьбы, требующие от человека не изменения обстоятельств, а изменения себя и своей жизни [10] Таков, например, евангельский призыв к покаянию (= метанойе = перемене ума): «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф 3:2). Не угроза скорого суда, не бегство от наказания — главный мотив покаяния, а приготовление себя к Встрече, раскрытие в себе способности принять дар, войти в радость.
.
Можно выдвинуть предположение, что молитва как особый тип человеческой активности спонтанно зарождается в точках «экзистенциальных экстремумов», как отрицательных, так и положительных. Это предположение может быть даже переформулировано в эмпирически верифицируемом виде: у человека, не имеющего навыка регулярной молитвы, вероятность возникновения молитвенных состояний и действий тем больше, чем более значимую ситуацию он переживает и чем в более острой точке находится его переживание.
Впрочем, в рамках данного исследования гораздо важнее наращивание корпуса теоретических гипотез, чем концентрация на проверке одной из них. Поэтому ограничимся лишь литературным примером, наглядно показывающим, как кризис в переживании кризиса дает толчок к тому, что душа обращается от переживания к молитве. Кроме возможности проиллюстрировать процесс рождения молитвы из переживания нижеследующий пример дает возможность высказать общие теоретические гипотезы о взаимовлияниях и взаимопереходах между процессами переживания и молитвы, предваряющие систематический анализ проблемы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: