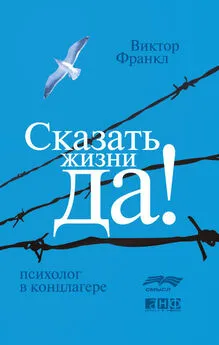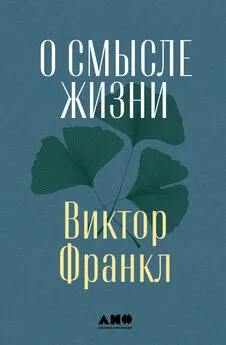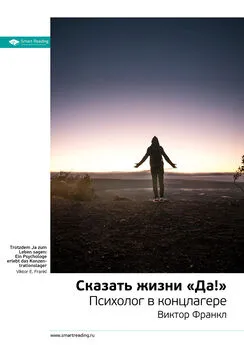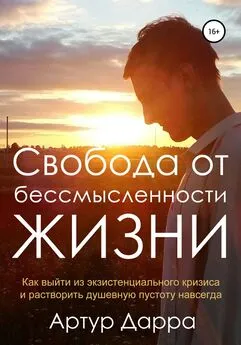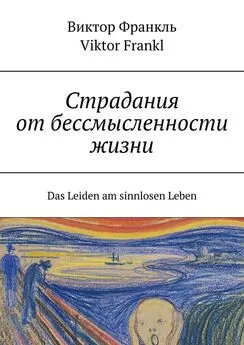Виктор Франкл - Страдания от бессмысленности жизни
- Название:Страдания от бессмысленности жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Франкл - Страдания от бессмысленности жизни краткое содержание
Виктор Эмиль Франкль
Книга всемирно известного австрийского философа, психолога, создателя логотерапии Виктора Франкля (1905–1997) представляет собой сборник лекций, в которых в доступной и увлекательной форме изложены основные идеи экзистенциальной психологии.
Научная и литературная карьера выдающегося австрийского психолога началась в 1924 году, когда он с одобрения Зигмунда Фрейда опубликовал свою первую статью в «Международном психоаналитическом журнале». Пережив в молодости увлечение психоанализом и психологией Адлера, Виктор Франкль стал родоначальником совершенно нового направления в психологии, которое теперь именуют Третьей Венской Школой психотерапии. Основываясь на своём богатом опыте практикующего психотерапевта, Франкль не только анализирует причины появления мучительного ощущения бессмысленности жизни, которое царит в современном обществе, но и даёт свой рецепт избавления от страданий, вызванных этим ощущением.
Многие лекции, составившие эту книгу, публикуются на русском языке впервые.
Viktor E. Frankl, Wien, 1993 Панков С.С., перевод на русский язык, 2009
Страдания от бессмысленности жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Мне доводилось видеть, как убеждённые атеисты, которые, казалось бы, всегда наотрез отказывались верить в «высшее существо» и в высший смысл жизни, на смертном одре, при смерти подавали окружающим такой пример, какой не могли подать при жизни, — пример безмятежности, не только противной их убеждениям, но и не поддающейся никакому рациональному объяснению. К умирающему приходит какое-то прозрение, какое-то понимание, а с ним и безграничная вера во что-то неведомое и в кого-то неведомого, вера, которая сильнее знания о неминуемой смерти. Об этом же толкует Вальтер Байер: «Впомним, что писал Герберт Плюгге о надежде. Когда человек неизлечимо болен, ему объективно уже не на что надеяться. Будучи в ясном уме и трезвой памяти, он должен отдавать себе отчёт в том, что обречён. Но он не теряет надежды до самой смерти. На что он надеется? На первый взгляд может показаться, что он надеется на исцеление в этой жизни, но под этим покровом таится сокровенная трансцендентная надежда, глубоко коренящаяся в самой природе человека, ибо человек просто не может существовать без надежды на грядущее воздаяние, в которое он верит не под влиянием церковных догматов, а в силу своей естественной склонности».
Я уже говорил о том, что, по мнению Эйнштейна, любого человека, который полагает, что он нашёл смысл жизни, можно назвать верующим. Похожую мысль высказал и Пауль Тиллих, который дал такое определение религиозности: «Религиозность — это страстное стремление доискаться до смысла жизни». Вот что пишет о вере Людвиг Витгенштейн: «Верить в Бога значит понимать, что жизнь имеет смысл» (Дневники, 1914–1916). Во всяком случае, можно сказать, что логотерапевт, — хоть он и занимается прежде всего психотерапией, которая относится к области психиатрии и медицины, — вправе изучать не только так называемое стремление к смыслу, но и стремление к абсолютному, высшему смыслу, а ведь религиозность — это по сути и есть вера в высший смысл, упование на то, что жизнь имеет высший смысл.
Конечно, такие представления о религии не имеют ничего общего ни с конфессиональным догматизмом, ни с его порождением — религиозным доктринёрством, слепой верой в то, что Богу нужно лишь одно — чтобы в него верило как можно больше людей, причём в соответствии с догматами определённой конфессии. Лично мне не верится, что Бог настолько мелочен. И я не понимаю, зачем церковь призывает меня уверовать. Я же не могу уверовать или полюбить по собственной воле, не могу, вопреки своим убеждениям, заставить себя любить и уповать. Не всё можно сделать по собственной воле, а тем более по требованию или по приказу. Я ведь не могу рассмеяться по приказу. Чтобы я рассмеялся, меня нужно рассмешить.
Любовь и веру тоже нельзя себе внушить. Любовь и вера — это побуждения, которые возникают лишь в том случае, когда для них находится подходящий повод и объект.
Как-то раз одна американская журналист-ка брала у меня интервью для журнала «Тайм» и задала мне такой вопрос: не считаю ли я, что современное общество отпадает от веры? Я ответил, что общество отпадает не от самой веры, а от религиозных конфессий, представители которых только и делают что стараются переманить друг у друга паству. «Если так будет продолжаться, то, возможно, рано или поздно возникнет некая универсальная религия?» — спросила меня журналистка. «Нет, — ответил я. — Мы движемся не к универсальной, а, напротив, к индивидуальной, глубоко личной религиозности, благодаря которой каждый человек сможет обращаться к Богу на своём особом, сокровенном языке».
Разумеется, это никоим образом не означает, что совместные обряды и общие символы себя изживут. Ведь многие народы пользуются одним алфавитом, хоть и говорят на разных языках.
На свете много разных религий и много разных языков. Никто не может утверждать, что его родной язык лучше других. На любом языке человек может выразить истину, общую истину, и на любом языке человек может высказать ошибочную мысль или солгать. Так и любая религия может открыть человеку путь к Богу — к единому Богу.
Спрашивается, что правильнее — внимать Богу или самому обращаться к нему. Людвиг Витгенштейн выдвинул такой постулат: « Whereof one cannot speak, thereof one must be silent » — «О чём невозможно сказать, о том нужно молчать». Мы перевели эту фразу с английского языка на родной. Но если ещё перевести её с языка агностицизма на язык веры, то она будет звучать так: «О чём невозможно сказать, о том нужно молиться».
В наше время к психиатру часто обращаются люди, которые сомневаются в том, что жизнь имеет смысл, или уже отчаялись найти смысл жизни. Но, по большому счёту, нашим современникам не пристало жаловаться на бессмысленность жизни. Достаточно посмотреть по сторонам, чтобы заметить, что многие люди живут в нужде, пока мы наслаждаемся материальным благополучием и свободой. Разве мы не несём ответственность за других? Несколько тысяч лет назад люди доросли до веры в единого Бога, пришли к монотеизму. Почему же люди до сих пор не сознают, что человечество тоже едино? Почему люди так и не доросли до идеи человеческой общности, которую я назвал бы моноантропизмом? При всём своём многообразии человечество — это единый организм, несмотря на расовые различия и политические расхождения.
Критика динамического психологизма
Уильсон ван Дузен утверждает: «В основе любой психотерапевтической методики лежит определённая философия, но мало кто заявляет о своих философских принципах так же открыто, как приверженцы экзистенциального анализа». И действительно, любая психотерапевтическая методика зиждется на особой антропологической концепции. Не составляет исключения и психоанализ. Даже психоаналитик Пауль Шильдер признаёт, что психоанализ — это «мировоззрение». Любой психотерапевт руководствуется определёнными антропологическими представлениями, но только не всегда отдаёт себе в этом отчёт. А ведь ещё со времён Фрейда известно, какую опасность таят в себе бессознательные представления. Смею утверждать, что, предлагая пациенту лечь на кушетку и предаться свободным ассоциациям, психоаналитик уже даёт ему понять, каким представлением о человеке он руководствуется. Аналитик старается избежать прямого контакта, обычного человеческого общения с пациентом, а значит, руководствуется концепцией, в которой не учитывается человеческая индивидуальность пациента. Считается, что психоаналитик воздерживается от моральных оценок. Но разве сама готовность воздерживаться от моральных оценок не подразумевает определённую моральную оценку? Как это происходит на практике? Возьмём, к примеру, свободные ассоциации, толкование которых, как известно, составляет основу психоаналитической методики лечения. Вот что пишет об этом психоаналитик Альберт Геррес: «Когда аналитик требует, чтобы пациент говорил первое, что придёт ему на ум, он уже лишает пациента свободы выбора, настраивает его на определённый лад и даёт ему чёткие ориентиры» {30} 30 Геррес А. Методы и практика психоанализа. Мюнхен, 1958 (Gorres A. Methode und Erfahrungen der Psychoanalyse. Munchen, 1958). — Примеч. автора.
.
Интервал:
Закладка: