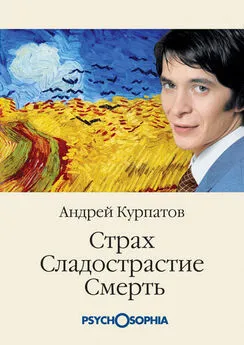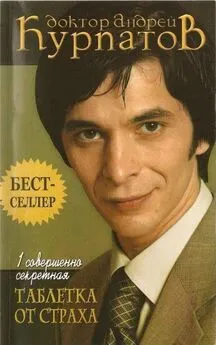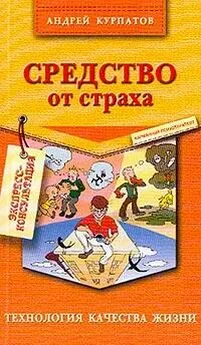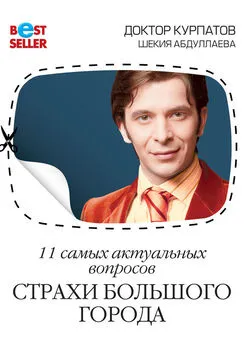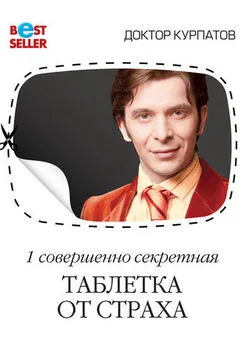Андрей Курпатов - Страх. Сладострастие. Смерть
- Название:Страх. Сладострастие. Смерть
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Курпатов - Страх. Сладострастие. Смерть краткое содержание
Данная монография интересна, в первую очередь, попыткой использовать аналитический метод и структуралистический подход в исследовании экзистенциальных феноменов. Именно это сложное сочетание методологических систем (взглядов, приемов) позволяет по-новому взглянуть на гуманитарную область в целом.
Какого рода задачи решает гуманитарий? Какой исследовательский инструментарий ему доступен? Каким образом должно быть организовано это знание, чтобы вызывать желаемый эффект?
Именно эти вопросы незримо встают перед читателем книги, пока он проходит меж Сциллой Страха и Харибдой Сладострастия… в ворота Смерти.
Страх. Сладострастие. Смерть - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
От слова «синтез» происходит понятие «синтетического», и возникающая аналогия отнюдь не случайна. Впрочем, то же мы можем сказать и об искусстве, которое в современном мире становится не «искусностью», а «искусственностью». В этом смысле следует говорить о «творчестве» и «Творце», а синтетичности «синтеза» Роман Виктюк противопоставляет концептуальность . Что это такое? Каждый из нас знает, как слова неумелы и неповоротливы, особенно в те моменты, когда мы хотим выразить свое чувство, свое душевное отношение. В такие моменты хочется молчать, хочется умолкнуть, чтобы позволить говорить самой душе, своему сердцу. И поскольку Роман Виктюк говорит в своих постановках о самом сокровенном, то и концептуальность его работ невыразима в словах. Конечно, можно было бы втиснуть его произведения в сухие рамки общих оценок, но этот путь был бы в корне неверным, поэтому мы не будем этого делать. Это нужно видеть . Сам Роман Виктюк говорит о неких «вибрациях», но и эта экстраполяция терминов – лишь вынужденный компромисс с языком, который не способен выразить ни чувство, ни сущностное.
Концепция, лежащая в основе его «Пробуждения весны», сущностна. Он раскрывает целый пласт дискурсивности. А, как известно, нет более тонкого и более сложного предмета философского и психологического исследования, чем дискурсивность, потому что и чувства, и сущности лежат не в сфере языка, а в непосредственном переживании. В этом смысле можно предложить такую аналогию: высказывания, акты говорения – это лишь банки, склянки, разнообразные корытца с водой, тогда как дискурс – это само течение реки, в которой можно, конечно, расположить все эти емкости с жидкостью, но они никогда не передадут ни естественности, ни динамичности живого потока воды.
У дискурса есть своя великая загадка: несмотря на то что он, как кажется, лежит на поверхности, из-за его глобальности и очевидности мы просто не в силах его заметить, осознать, осмыслить. Все глобальные явления мироздания скрываются за личиной очевидности, которая не может быть схвачена в познании. Последнее доступно лишь гению. Веками люди считали, что яблоки падают на землю не по какому-то закону, а просто потому что «они тяжелые». Должен был появиться гений Ньютона, чтобы увидеть за этим очевидным правилом физическую силу гравитации. Поэтому всякий исследователь жизни, который способен ухватить очевидное, вырвать его из мрака безмолвия или же бессмысленного говорения, вынести его на свет и показать другим, заслуживает самой высокой оценки. Дискурс, как мы уже сказали, относится как раз к такого рода явлениям. Способность раскрывать дискурс в концептуальном выражении, наверное, редчайшее дарование, которое только Бог может вложить в человека, находящегося на Пути.
Какой же дискурс на этот раз, в «Пробуждении весны», раскрывает Роман Виктюк? Как мы уже говорили, в постановочном решении Мейерхольда есть два важных режиссерских хода. Во-первых, своеобразная «архитектура» спектакля с отрывочной, точечной подачей восемнадцати сцен пьесы. Каждая сцена как выстрел длинной автоматной очереди, атакующей зрителя. Сцены из жизни четырнадцатилетних ребят, их «маленькие трагедии» по ходу пьесы складывались в одну большую драму. В целом этот режиссерский ход, видимо, соответствовал замыслу Ведекинда. Во-вторых, социальный подтекст. Не единичные судьбы героев занимают Мейерхольда, а двуличность прогнившей общественной морали. Но с тех пор канул век… Мораль, по правде говоря, так и осталась моралью, но все-таки претерпела значительные изменения, особенно на Западе, где экспансия экзистенциализма, гуманистической психологии, сексуальной революции, а также планомерная демократизация государственных институтов сделали свое дело.
Сейчас центр тяжести переместился с противостояния личности и социума на внутренний, личностный конфликт каждого из нас. В этом диспозитиве и сосредоточено тело дискурса, высвеченного, как в луче яркого света, в постановке «Пробуждения весны» Романа Виктюка. Есть ли этот конфликт?… Несомненно. И отнюдь не случайно Роман Виктюк помещает под ведекиндовским заголовком пьесы четкое указание: «Мистерия Эроса и Танатоса». Этот подстрочник в заголовке указывает на диспозицию Эроса и Танатоса, диспозицию Любви и деструктивных тенденций человеческой души. Для полной победы над Минотавром репрессивной морали, укорененной в человеке, нельзя просто убить это страшное чудовище, нужно еще найти выход из лабиринта, созданного искусным Дедалом.
Благословенная нить Ариадны, указывающая путь из лабиринта дискурсивных аберраций, именно сейчас жизненно необходима каждому человеку. Поэтому весь свой спектакль Роман Виктюк строит не отрывочными сюжетами, как того хотел Ведекинд и что сделал в своей постановке Мейерхольд, а единым движением, которое достигает своей цели, вызывая непосредственное переживание в зрителе, переживание, создающее осознание . «Пробуждение весны» Романа Виктюка – это безжалостное наступление на зрителя: деструктивность внешняя призвана разрушить деструктивность внутреннюю, разрушить и даровать желанное освобождение. Дискурсивность и природу этой мистерии раскрывает Роман Виктюк в своей постановке. Об этом нам и надлежит вести речь в разделе «Концепция».
Сёрен Кьеркегор
Всякий дискурс имеет долгую историю, и рассматриваемый нами дискурс не составляет исключения из этого правила. Поэтому раскрывать дискурс необходимо в исторический перспективе, начиная исследование с точки перелома, обратив свой взгляд сначала в сторону, предшествующую перелому, на путь констелляции дискурса, а затем в сторону его разрешения. Начнем с первого.
Карл Ясперс назвал Кьеркегора и Ницше «двумя модусами экзистенциализма». Действительно, в истории философии нет двух других столь отличных друг от друга людей, которые настолько едино по сути, но столь разными способами толковали бы одну и ту же вещь – экзистенцию. Справедливости ради необходимо оговориться, что ни тот ни другой философ не использовал понятие экзистенции в значении, которое придавалось этому понятию поздними экзистенциалистами, но то, что все они говорят об одном и том же, сомнений, наверное, ни у кого не вызывает.
Судьба Сёрена Кьеркегора трагична. Он жил в первой половине XIX века в холодной чопорной Дании, так что репрессивность общественной морали и религиозного запрета чувственности усугублялась, кажется, еще и самой природой. Его жизнь наглядно демонстрирует нам, как внешний по отношению к личности императив морального подавления проникает в душу и овладевает ею. Но вот послушайте, что он пишет:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: