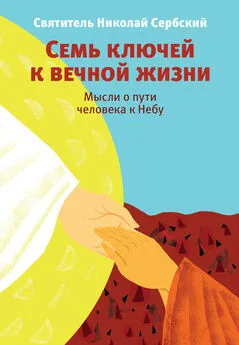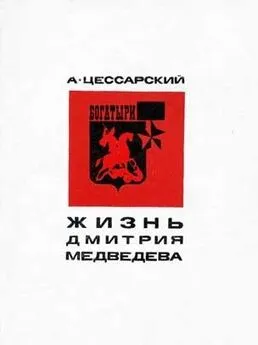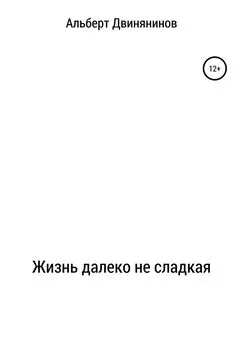Альберт Швейцер - Жизнь и мысли
- Название:Жизнь и мысли
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1996
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Альберт Швейцер - Жизнь и мысли краткое содержание
Книга адресована читателям, интересующимся проблемами религии, этики, философии и культуры.
Жизнь и мысли - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Большую помощь в занятиях музыкой оказывал мне Эрнст Мюнх, брат моего мюльхаузенского учителя. Он был органистом церкви св. Вильгельма в Страсбурге, а также инициатором и дирижером баховских концертов, дававшихся церковным хором. На этих концертах он доверял мне органное сопровождение кантат и "Страстей". Сначала, разумеется, это касалось только репетиций, где я заменял его мюльхаузенского брата, который в свою очередь занимал мое место во время самих концертов. Вскоре, однако, я уже играл и на концертах — в тех случаях, когда брат не мог приехать. Так, еще молодым студентом, я познакомился с творениями Баха и имел возможность на практике столкнуться с проблемами исполнения баховских кантат и "Страстей".
Церковь св. Вильгельма в Страсбурге считалась в то время одним из главных рассадников возродившегося в конце прошлого столетия культа Баха. Эрнст Мюнх был необыкновенным знатоком произведений кантора церкви св. Фомы. Он одним из первых отказался от модернизированного исполнения музыки кантат и "Страстей", принятого почти повсюду в конце XIX столетия. Со своим маленьким хором, в сопровождении выдающегося страсбургского оркестра, он стремился добиться истинно художественного исполнения. Многие вечера просиживали мы над партитурами кантат и "Страстей" в поисках правильного подхода к их интерпретации. Продолжателем дела Эрнста Мюнха в качестве дирижера на этих концертах стал его сын Фриц Мюнх, директор Страс-бургской консерватории.
Преклоняясь перед Бахом, я испытывал аналогичное чувство и по отношению к Рихарду Вагнеру. Шестнадцатилетним школьником в Мю-льхаузене я в первый раз смог пойти в театр на "Тангейзера". Его музыка завладела мной настолько, что в течение нескольких дней я был не в состоянии отнестись с должным вниманием к школьным урокам.
В Страсбурге, где под управлением Отто Лозе оперные спектакли ставились с величайшим мастерством, я имел возможность близко познакомиться со всеми произведениями Вагнера, за исключением "Пар-сифаля", которого в то время ставили только в Байрейте. Огромным событием стало для меня памятное возобновление постановки "Тетралогии" в Байрейте в 1896 г. — первое после премьеры 1876 г. Билеты мне достали мои парижские друзья. Чтобы компенсировать расходы на проезд, пришлось сократить питание до одного раза в день.
Сегодня, если мне случается присутствовать на вагнеровском спектакле со всевозможными сценическими эффектами, требующими к себе внимания наравне с музыкой (как если бы это было кино), я с грустью вспоминаю те прежние постановки "Тетралогии" в Байрейте, самая простота которых производила необыкновенное впечатление. И оформление спектакля, и исполнение — все было выдержано в духе великого композитора, тогда уже покойного.
[Оркестром, как и в 1876 г., дирижировал Ганс Рихтер. Партию Логе исполнял Генрих Фогль, Брюнгильды — Лилли Леман. Оба они участвовали в первой постановке: Фогль — в той же партии, а Лилли Леман — в партии одной из дочерей Рейна.]
Фогль в роли Логе произвел на меня — и как певец, и как актер — глубочайшее впечатление. С момента своего появления он доминировал на сцене, не делая ни малейших усилий для того, чтобы обратить на себя внимание. Он не наряжался, как это делают 'современные исполнители, в костюм Арлекина и не танцевал, как сейчас модно, вокруг сцены в ритме лейтмотива Логе. Единственное, что бросалось в глаза, — это его красный плащ. Единственными движениями, выполняемыми в ритме музыки, были те, когда он как бы нехотя вскидывал свой плащ то на одно, то на другое плечо, устремив взор на происходящее вокруг него и, однако, оставаясь свободным от происходящего. Так он и стоял, олицетворяя беспокойную силу разрушения, среди богов, шествующих, ничего не подозревая, к предначертанной им гибели.
Быстро пролетели студенческие годы в Страсбурге. В конце лета 1897 г. я записался на экзамен по теологии. Темой так называемых "тезисов" было "Учение Шлейермахера о Тайной вечере и ее истолкование в Новом завете и вероучении реформаторов". Эти тезисы все кандидаты на прохождение экзамена должны были написать за восемь недель. По результатам работы принималось решение о допуске к экзамену.
Это задание вновь привело меня к проблеме евангелий и жизни Иисуса. Вынужденный изучить все исторические и догматические представления о Тайной вечере, я понял, насколько неудовлетворительны существующие объяснения смысла исторического торжественного обряда, совершенного Иисусом и его учениками, а также возникновения первохристианской ритуальной трапезы. Большую пищу для размышлений дало мне замечание Шлейермахера в его знаменитом "Учении о вере", в разделе, посвященном Тайной вечере. Он обращает внимание на тот факт, что, согласно описаниям вечери у Матфея и Марка, Иисус не вменяет в обязанность своим ученикам повторять трапезу. Поэтому нам, возможно, придется свыкнуться с мыслью, что установившийся в первохристианской общине обряд трапезы обязан своим происхождением ученикам Иисуса, но не Ему самому. Эта мысль, вскользь брошенная Шлейермахером в ходе блестящих диалектических рассуждений, во не разработанная до конца, т.е. до уяснения возможного исторического значения этого обстоятельства, не выходила у меня из головы и после того, как я кончил заданные мне тезисы.
Я рассуждал так. Если указание повторять трапезу в двух древнейших евангелиях отсутствует, значит, ученики вместе с другими верующими повторяли ее фактически по собственной инициативе, опираясь на свой авторитет. Однако поступать так они могли лишь в том случае, если в основе этой последней трапезы было нечто, что делало ее осмысленной даже без произносимых Иисусом слов и совершаемых Им действий. Но поскольку ни одно из существовавших к тому времени объяснений Тайной вечери не позволяло понять, каким образом она начала повторяться перво-христианской общиной без указания на этот счет Иисуса, мне оставалось заключить, что все эти объяснения в равной степени не решают проблему. Отсюда я пришел к постановке и исследованию вопроса о том, не связано ли значение, которое имела для Иисуса и Его учеников эта трапеза, с ожиданием мессианского, пира в Царстве Божьем, которое должно наступить в самое ближайшее время.
II. ПАРИЖ И БЕРЛИН. 1898—1899 годы
Шестого мая 1898 г. я сдал первый теологический экзамен, так называемое государственное испытание, и остался на все лето в Страсбурге, с тем чтобы всецело посвятить себя занятиям философией. [В течение этого времени я жил в доме Старого рыбного рынка (№ 36) — в том самом, в котором жил Гёте, когда был студентом в Страсбурге.] Виндельбанд и Циглер были, каждый в своей области, людьми выдающимися и прекрасно дополняли друг друга. Виндельбанд был силен в древней философии, и его семинары по Платону и Аристотелю — это поистине прекраснейшее воспоминание моих студенческих лет. Предметами Циглера были главным образом этика и религиозная философия. Что касается последней, то здесь у него было особое преимущество благодаря познаниям, которыми он обладал как бывший теолог (он окончил Теологический колледж в Тюбингене).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: