Сергей Аверинцев - Аналитическая психология К.-Г. Юнга и закономерности творческой фантазии
- Название:Аналитическая психология К.-Г. Юнга и закономерности творческой фантазии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1972
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Аверинцев - Аналитическая психология К.-Г. Юнга и закономерности творческой фантазии краткое содержание
Аналитическая психология К.-Г. Юнга и закономерности творческой фантазии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Применительно к литературе и искусству, основанным на овидианском подходе к мифу, схема «заимствования» и метод выявления мифологических персонажей по индексу более или менее работают. К тому же старая методология имеет несомненное преимущество постольку, поскольку она с топорной четкостью устанавливает общепринятые и общеобязательные границы понятия мифа. Правда, вне этих границ (а потому и вне кругозора старой науки) оказывается множество явлений, без учета которых невозможно до конца осмыслить даже новоевропейскую культуру Ренессанса и барокко: таковы хотя бы «низовые» и «карнавальные» мифологемы раблезианского типа [1] Ср. обстоятельный анализ этого материала в кн.: М. Бахтин, Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса, «Художественная литература», М. 1965.
не говоря уже о крайне важном для определенных эпох алхимическом мифе. И все же неблагополучно старой схемы в полной мере выявляется прежде всего на материале литературы и искусства двух последних веков.
Становление нового подхода к мифу происходит с начала XIX столетия и притом с особой интенсивностью в Германии. Уже во второй части «Фауста» Гёте проходят образы греческих и христианско-католических, но также и простонародно-немецких мифов, каждый из которых схвачен в своей жизненной и менее всего книжной специфике, а все в совокупности складываются в некоторый новый миф, уже не «заимствуемый», но заново «творимый». Небывалое по напряженности вникание в глубинные аспекты подлинной греческой мифологии, казалось бы, погребенной под пластами овидиевского классицизма, происходит в поэзии Гёльдерлина; его поэтический язык выявляет органичнейшее переживание некоторых предельно простых моделей мифа [2] См.: М. Hеidеggег, Unterwegs zur Sprache, Pfullingen, 1959.
. Одновременно ученые и поэты романтизма вводят в кругозор европейского читателя богатство национальных мифологий германцев и кельтов, славян и народов Востока; выясняется, что не всякая мифология так непосредственно и выпукло «образна», иконична, как заставляла предполагать структура греческого мифа, — а это наносит еще один удар по «индексовому» изучению мифологических мотивов. Так, мифология Китая давала литературе и искусству не только и не столько иконические типы, сколько абстрактные первосхемы моделирования мира в числе, пространстве и времени (постепенно наука делается более чуткой к такому роду мифологии и в западной культуре). Открытая романтизмом возможность некнижного, жизненного отношения к мифологическим символам, реализуясь в обстановке расцвета реалистико-натуралистических бытописательских жанров, выливается в опыты мифологизации быта, когда первообразы мифомышления выявляются в самых прозаических контекстах. Эта линия идет от Гофмана с его относительно условной и наивной стилизацией к фантастике Гоголя («Нос»), к натуралистической символике Золя [3] Как спрашивал Томас Манн: «Разве Астарта Второй империи, именуемая Нана, — не символ, не миф?» (Т. Man n, Gesammelte Werke, Bd. X, Berlin, 1955, S. 348).
— и уходит в наши дни. В этой сфере уже невозможно найти «мифологические» имена и книжные реминисценции, но архаические ходы мифомышления активно работают в заново творимой образной структуре на выявление простейших элементов человеческого существования и придают целому глубину и перспективу.
Психологизм XIX века в своем развитии с необходимостью наталкивается на мифологические первоосновы современного сознания, что дает возможность в еще большей степени лишить миф книжной условности и заставить мир архаики и мир цивилизации активно объяснять друг друга. В художественной практике Рихарда Вагнера этот шаг был сделан еще в 40-70-х годах XIX столетия, задолго до психоаналитического теоретизирования. Какой бы вульгаризации ни подвергся вагнеровский подход к мифу в руках эпигонов, он на ряд десятилетий предвосхитил дальнейший путь — к Фрейду и далее; виртуозная интуиция Вагнера, как она сказалась, например, в реконструкции мифологемы воды как символа первoзданно-хаотического состояния универсума (начало и конец «Кольца Нибелунга»), в мифологическом сближении ковки и коварства (образ Миме), женской любви, материнской любви, страха и огня (2-я сцена 2-го акта «Зигфрида») [4] «Здесь присутствует угадываемый и мерцающий из бездны бессознательного комплекс привязанности к матери, полового вожделения и страха… стало быть, такой комплекс, который представляет Вагнера-психолога в любопытнейшем интуитивном согласии с другим типичным сыном XIX столетия — Зигмундом Фрейдом, психоаналитиком» (Т. Mann, Gesammelte Werke, Bd. X, S. 353
и т. п., до сих пор поражает своей меткостью. Очевидно, что старое представление об использовании мифологических мотивов безнадежно неприложимо ко всей культуре XX века в целом. Первоэлементы эллинского мифологического мира в таких стихотворениях О. Мандельштама, как «Сестры — тяжесть и ножность» и т. п., вообще невозможно выявить при помощи «индексовых» методов, а между тем эти первообразы там явственно присутствуют [5] Ср. попытку подойти к этой проблеме посредством структуралистских методов: Ю. И. Левин, О некоторых чертах плана содержания в поэтических текстах (Материалы к изучению поэтики Мандельштама), «International Journal of Slavoniatl Linguistics and Poetry», X, 1967, и другие работы этого же автора.
«Бесплодная земля» Т. Элиота оказывается мифологичной не потому, что сам автор в комментарии дешифрует спрятанного там «повешенного бога», знание о котором почерпнуто из многотомного исследования Дж. Фрэзера «Золотая ветвь», но по объективной внутренней структуре произведения. Травестия иудаистского мифа, без сомнения, образует эмоциональный фон творчества Кафки, но как сделать ее предметом строгого анализа?
И еще раз: что такое миф в художественном творчестве? Эта методологическая проблема неизбежна для всякого исследователя, который попытался бы при решении конкретных проблем исходить из более или менее цельного представления о культуре. Прежде всего необходим такой критерий определения «мифологичности» мотива который, счастливо избежав пустой формальности прежних критериев, был бы столь же ясным и общеобязательным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

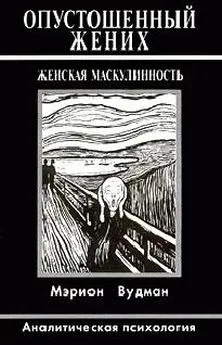

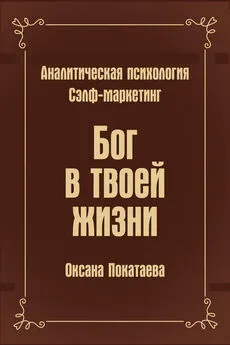
![Карл Юнг - Аналитическая психология [litres]](/books/1058248/karl-yung-analiticheskaya-psihologiya-litres.webp)
