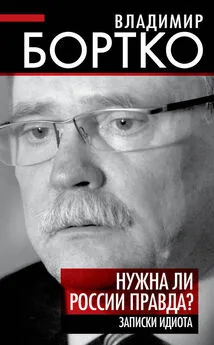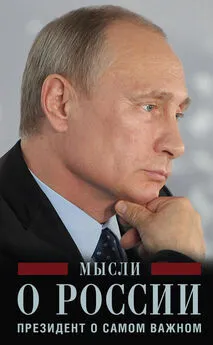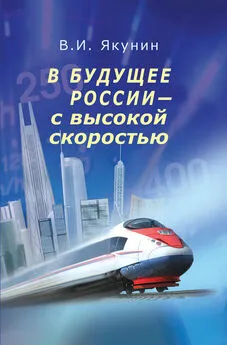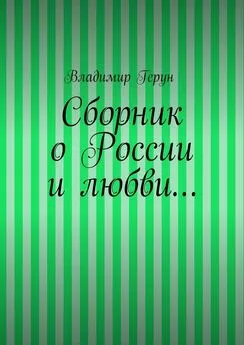Владимир Вейдле - Задача России
- Название:Задача России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Белорусская Православная Церковь
- Год:2011
- Город:Минск
- ISBN:978-985-511-333-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Вейдле - Задача России краткое содержание
Вейдле Владимир Васильевич (1895-1979) - профессор истории христианского искусства, известный писатель, литературный критик, поэт и публицист. Одной из ведущих тем в книгах и "статьях этого автора является тема религиозной сущности искусства и культуры в целом. В работе "Задача России" рассмотрено место христианской России в истории европейской культуры. В книге "Умирание искусства" исследователь делал вывод о том, что причины упадка художественного творчества заключаются в утере художниками мировоззренческого единства и в отсутствии веры в "чудесное". Возрождение "чудесного" в искусстве возможно, по мнению Вейдле, только через возвращение к христианству. Автор доказывал, что религия является не частью культуры, но ее источником. Книга "Рим: Из бесед о городах Италии" содержит размышления о церковной архитектуре и раннехристианской живописи.
Адресовано всем тем, кто интересуется вопросами русской религиозно-философской мысли.
Задача России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ошибка Фадеева только в том, что он пользуется юридическим понятием сословия, а не социологическим — слоя или класса. С середины века единого культурного слоя в России действительно больше не было, а была бюрократия, была интеллигенция и были не примыкавшие ни к той, ни к другой образованные и творчески одаренные люди. Эти последние чем дальше, тем больше, становились подлинными носителями русской культуры, но к русскому государству не имели никакого отношения — ни правительственного, как бюрократия, ни оппозиционного, как интеллигенция. Бюрократия и интеллигенция жили исключительно политическими интересами (хотя «политика» значила для них не то же самое) и потому хирели культурно; относительно аристократического и чиновничьего мира это, кажется, ясно всем, но это столь же ясно и относительно враждебного ему лагеря: Герцен и Бакунин были высококультурными людьми, Чернышевский и Добролюбов стояли уже на более низком уровне, Михайловский и Лавров были людьми еще более ограниченной культуры, а после них классический интеллигент начинает вымирать, уступая место либо интеллигенту, кое-чему научившемуся от не причислявшихся к интеллигенции образованных людей, либо прямому своему наследнику, полуинтеллигенту; о культурном уровне которого свидетельствует сама полученная им кличка. То, что именно полуинтеллигент был единственным прямым наследником интеллигента, явствует из унаследования им одним основной интеллигентской черты: исключительной одержимости политикой, убеждения, что горсть политических идей важней религии, важней культуры, важней всего прочего содержания жизни и истории. Интеллигент одинаково не признавал своим человека, не разделявшего его политических идей, и человека, безразличного к политическим идеям. У Врубеля, Анненского или Скрябина могли быть (как, впрочем, и у любого бюрократа) интеллигентские черты, но классический интеллигент не счел бы этих людей своими и окончательно отшатнулся бы от них, если бы мог им поставить на вид малейшую политическую ересь, — подобно тому, как достаточно было профессору не высказать одобрения студенческой забастовке, чтобы его отчислили от интеллигенции. Недаром существовали у нас две цензуры, действовавшие с одинаковым усердием и успехом, хотя одна имела в своем распоряжении государственный, а другая лишь общественный аппарат, одна — запрет, другая — организованную травлю. Травили у нас Леонтьева, Писемского, Лескова. К духовной свободе относилась враждебно как большая часть бюрократии, так и большая часть интеллигенции. Оттого-то подонки интеллигенции в союзе с подонками бюрократии и могли образовать послереволюционную правящую верхушку.
Было, впрочем, время — то, что зовут «эпохой великих реформ», — едва ли не самое трагическое в русской истории, когда весь еще не распавшийся культурный слой, включавший и подраставшую интеллигенцию, и правившее еще дворянство, и государство, и общество, и всю ту Россию, что была нацией, но не народом, обратился к этому народу, чтобы дать ему то, в чем, казалось, он нуждался, чтобы с ним соединиться, чтобы сделать нацией и его. Но время потому и было трагическим, что попытка не удалась, и все реформы, включая и освобождение крестьян, были приняты народом как барские затеи, которые могут быть выгодны ему или нет, но всегда остаются ему чужды. Крестьяне хотели не столько избавления от крепостного права, сколько избавления от государства, будь оно представлено помещиком, исправником или воинским начальником; если бы они могли найти подходящие слова, они сказали бы, что им не нужна история, а довольно и своего крестьянского быта, и что они просят сохранить за ними быт на вечные времена. 22 апреля 1861 года Юрий Самарин написал письмо (позже опубликованное в «Красном Архиве»), которое принадлежит к самым замечательным документам русской истории. Он говорит там о явлении, «которое теперь обнаружилось перед всеми с сокрушительной ясностью. Это — полное, безусловное недоверие народа ко всему официальному, законному, т. е. ко всей той половине русской земли, которая не народ. Обыкновенно официальность и образованность относятся к народу, как власть, т. е. передают приказание и требуют послушания. В настоящем случае пришлось толковать, объяснять, убеждать, разуверять. Мы встретились с народным убеждением и сами убедились, что оно не только не подвластно нам, но что вообще слово не берет его, не действует на него нисколько. Спор возможен только при одном условии, когда у спорящих есть хоть одна общая исходная точка, хоть один факт, в котором они не сомневаются. Этого-то и не оказалось на сей раз. Манифест, мундир, чиновник, указ, губернатор, священники с крестом, высочайшее повеление — все это ложь, обман, подлог. Всему этому народ покоряется, подобно тому, как он выносит стужу, метели и засуху, но ничему не верит, ничего не признает, ничему не уступает своего убеждения. Правда, носится перед ним образ разлученного с ним царя, но не того, который живет в Петербурге, назначает губернаторов, издает высочайшие повеления и передвигает войска, а какого-то другого, самозданного, полумифического, который завтра же может вырасти из земли в образе пьяного дьячка или бессрочно отпускного».
При встрече с народом новая Россия разбилась о наследие Древней Руси, не преобразованное Петром и его преемниками на троне или у трона; она разбилась о географию, о неизменность народной жизни, ее победил все тот же стихийный разлив русской земли. Будучи побежденной, она пошла навстречу своему распаду: с шестидесятых годов начинается история русской революции. Быстро стали образовываться два враждебных механизма, бюрократический и интеллигентский, правительственный и революционный, два механизма, мешавшие видеть, мешавшие отличать реальные нужды страны от теоретических постулатов революции или контрреволюции, постоянно нарушавшие естественное развитие культурной жизни. Чеховский разбитый параличом мир обязан своим происхождением действию обоих механизмов, а не одного только, как обычно думают. И точно так же, в обоих лагерях, а не только в одном, крушение реформ, не достучавшихся до народного ума, вызвало особое тяготение к народу. Интеллигенты «ходили в народ», что бывало подвигом истинной любви, но с народом пытались сблизиться и официальные верхи русского общества, в чем подвига (благодаря методам сближения) было меньше, но толку точно так же не было совсем. Опрощался барин Толстой, и в этом было по крайней мере столько же от барства, сколько от мотивов, прозрачных для интеллигенции; опрощались такие толстовцы, в которых простоты было от природы более чем достаточно; но опрощались и русские цари, и в каком-нибудь будущем историческом музее косоворотка и сапоги Толстого будут висеть недалеко от косоворотки и сапог Распутина. Россия, созданная Петром, кончилась покаянием, но не только за царевича Алексея и казненных стрельцов, а за Грозного, за Калиту, за призвание варягов. Сами варяги и каялись — за то, что Россия стала нацией, но не включила в нацию народа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: