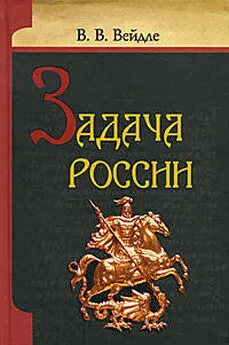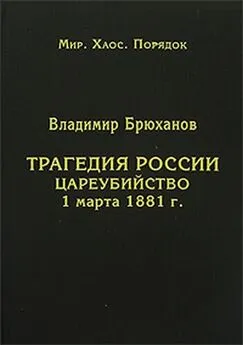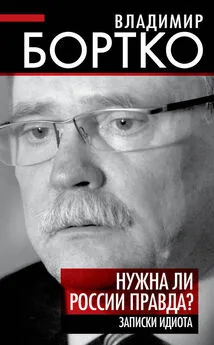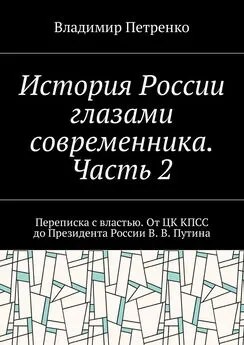Владимир Вейдле - Задача России
- Название:Задача России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Белорусская Православная Церковь
- Год:2011
- Город:Минск
- ISBN:978-985-511-333-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Вейдле - Задача России краткое содержание
Вейдле Владимир Васильевич (1895-1979) - профессор истории христианского искусства, известный писатель, литературный критик, поэт и публицист. Одной из ведущих тем в книгах и "статьях этого автора является тема религиозной сущности искусства и культуры в целом. В работе "Задача России" рассмотрено место христианской России в истории европейской культуры. В книге "Умирание искусства" исследователь делал вывод о том, что причины упадка художественного творчества заключаются в утере художниками мировоззренческого единства и в отсутствии веры в "чудесное". Возрождение "чудесного" в искусстве возможно, по мнению Вейдле, только через возвращение к христианству. Автор доказывал, что религия является не частью культуры, но ее источником. Книга "Рим: Из бесед о городах Италии" содержит размышления о церковной архитектуре и раннехристианской живописи.
Адресовано всем тем, кто интересуется вопросами русской религиозно-философской мысли.
Задача России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Язык поэзии у нас зрелей и разработанней, чем язык прозы, и этого нельзя объяснить одной лишь естественной последовательностью исторического развития. Пушкин жаловался в 1824 году на то, что «метафизического языка», т. е. отвлеченной прозы, «у нас вовсе не существует», и несмотря на все ее успехи, нам и сейчас ее не хватает более всего. Недаром в русской литературе повествование, сказ и живая речь первенствуют над всеми другими видами прозаического стиля; недаром самый оригинальный и глубокий из русских мыслителей, Достоевский, был художником, как Платон или Ницше, а не ученым, как Декарт или Кант, и мыслил не отвлеченными понятиями, а прибегая к образам и мифам; недаром лучшая книга Соловьева написана в форме диалога, а лучшие книги Розанова — в форме отрывков, и притом неслыханно интимным, противокнижным, закадычным языком. Средний уровень философской и научной прозы у нас и поныне весьма низок, а у величайших наших писателей небрежность языка странным образом уживается со стилистической гениальностью. Так, в «Подростке» читаем: «более высшую мысль», «знакомой рукой» (вместо «привычной»)– «чем же она формулировала» (вместо «аргументировала»), а в «Анне Карениной»: «гораздо после» (вместо «позже»),
«О, прелесть моя, думал он на Фру-Фру» того душевного расстройства, которое на него всегда производили слезы». Писатель у нас как бы отказывается от пристальности в отношении слова, по-настоящему всматривается в него, лишь когда оно наполняется до краев чувством и ритмом, когда язык прозы превращается в язык стиха. Относительная безыскусственность русского прозаического стиля (выражающаяся также в относительной неразработанности его ритмических возможностей) как бы возводит в художественный принцип общую нефиксированность, шаткость и свободу языка. В некоторых отношениях это недостаток, в других — огромное преимущество. Знаменитый языковед Антуан Мейе не без основания считал, что русская литература минувшего века в значительной мере черпала свою силу из необыкновенной свежести и жизненности языкового материала, который находился в ее распоряжении. Слишком большая пристальность могла бы эту жизнь умертвить; русская литература предпочла полноту жизни совершенству формы.
Поэзия Пушкина есть чудо живой формы, безыскуственного искусства, но такое чудо повториться не могло. Трагедия культуры заключается в том, что жизнь и форма не могут быть приведены в постоянное, устойчивое соответствие. После пушкинского чуда всякая другая поэзия отвердела бы, иссохла; русская разрыхлилась, разными способами расшатала форму — не пушкинскую, а форму вообще. То же случилось с русским романом после «Героя нашего времени», с русской музыкой после Глинки; что же касается других русских искусств, то они тяготели к бесформенности и в XVIII, и в XIX, и продолжают к ней тяготеть в XX веке. Во Франции классический стиль Империи жестко торжествен и насквозь сух, но русский усадебный «ампир» — самая мягкая, самая неархитектурная архитектура на всем свете. Первое, что бросается в глаза в портретах Шубина и Левицкого сравнительно с их французскими образцами – это опять-таки некоторая мягкость и рыхлость форм, очень подходящая, впрочем, к характеру тех русских лиц, что они изображают на холсте и в мраморе. Приблизительно в том же духе недооформлен Венецианов, и в совсем другом, но еще менее оксюрмлен Суриков. Крушение передвижников объясняется не отсутствием таланта, а тем, что они стыдятся живописи и заботятся о чем угодно, кроме нее. Затаенная боязнь формы приводит к применению готовых форм, каких попало, в надежде, что вывезет «нутро». Музыкальная грамматика Запада отталкивает русских музыкантов, и гений Мусоргского обходится без нее, а Чайковский, усвоивший ее вполне, относится к ней с опаской и потому не умеет, где нужно, ее сломать. Некрасов так шарахается от всякой формы, что нет-нет да и напялит на себя такие жалкие ее побрякушки, от которых непременно отказался бы последовательный и строгий формалист. Но все это не просто изъян; это лишь обратная сторона величия русской литературы и русского девятнадцатого века. Формобоязнь так же неразрывно связана со всем лучшим, что у нас есть, как наивно-прямолинейное отрицание искусства у Толстого с толстовским художественным гением.
Та непосредственность, что так поражает иностранцев в русской актерской игре, русском танце, пении, русском романе, что заставляет их в недоумении спрашивать себя, где же кончается русская манера жить, русский обиход и где начинается искусство Толстого или Чехова, — эта непосредственность, прямота, простота есть лишь следствие того недоверия к форме, той боязни, что она солжет, которыми одержим русский человек и ради которых он способен отбросить всякое искусство. Чувство это приводит к злейшей расхлябанности слова, как в стихах Полонского или Случевского, к слабости композиционных, т.е. рассудочно-волевых элементов в живописи и архитектуре, в музыке и романе, к недостаточной дифференцированности чувственных восприятий, что сказывается, например, в отсутствии последней колористической зоркости у живописцев или в ритме прозы, то не вполне проверенном (как у большинства), то чересчур подчеркнутом (как в лирических периодах Гоголя или Андрея Белого). За пределами искусства тот же инстинкт ведет к отрицанию иерархического принципа, признание которого смешивают у нас с чинопочитанием, и к непременному восстанию не столько против власти как таковой, сколько против власти, облеченной интеллектуальным или моральным авторитетом. Иерархия и авторитет — духовные формы, которые русский человек отказывается свободно признавать, предпочитая, чтобы их грубая материализация была навязана ему силой. Точно так же отказывается он считаться с тем расстоянием, что отделяет всякого человека от всякого другого человека; отсюда фамильярность — от лобзаний до рукоприкладства — в отношении высшего к низшим, смесь неуважения с подобострастьем в отношении низших к высшему, а между равными — распространеннейший из русских видов пошлости: панибратство. На иных путях та же боязнь формы ведет к бесчеловечной жесткости или к ненужной притязательности форм там, где обойтись без них представляется невозможным: к табели о рангах и «кнуто-германской империи» или к педантически-возвышенному и неосуществимо-грандиозному замыслу «Мертвых Душ» или ивановского «Явления Христа народу». Доведенная до предела формобоязнь легко переходит в решительное формопоклонство; Кутузов и Сперанский, Бакунин и Пестель одинаково русские умы, и несносная накрахмаленность брюсовских стихов — только реакция против души нараспашку его предшественников.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: