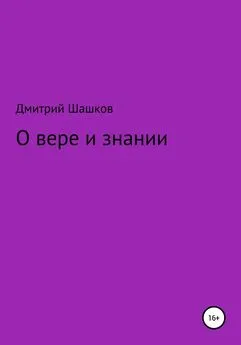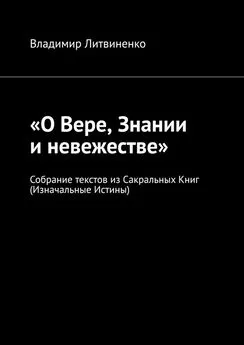Андрей Кураев - О ВЕРЕ И ЗНАНИИ
- Название:О ВЕРЕ И ЗНАНИИ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Кураев - О ВЕРЕ И ЗНАНИИ краткое содержание
О ВЕРЕ И ЗНАНИИ - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
 И напротив, там, где религиозное чувство пытаются передать через вещные, неперсоналистические характеристики (" что-то есть") — там дает себя знать паганизация духовной жизни, ее возвращение к доевангельскому и даже доветхозаветному образу мировосприятия. "У нас часто бывает, когда говорим о Вечном, о Высоком, употребляем словечко "что-то". Точно нет у Вечного имени, открытого Им людям, в котором Он сам. Вот это страшно, когда вместо Имени — "что-то", или, еще страшнее, когда Имя как звук пустой, как треск падающих костяшек. В Нем не "что-то" и не то "нет", не то "да", а всегда "Аминь", — протестует против этой редукции духовного опыта свящ. Анатолий Жураковский.
И напротив, там, где религиозное чувство пытаются передать через вещные, неперсоналистические характеристики (" что-то есть") — там дает себя знать паганизация духовной жизни, ее возвращение к доевангельскому и даже доветхозаветному образу мировосприятия. "У нас часто бывает, когда говорим о Вечном, о Высоком, употребляем словечко "что-то". Точно нет у Вечного имени, открытого Им людям, в котором Он сам. Вот это страшно, когда вместо Имени — "что-то", или, еще страшнее, когда Имя как звук пустой, как треск падающих костяшек. В Нем не "что-то" и не то "нет", не то "да", а всегда "Аминь", — протестует против этой редукции духовного опыта свящ. Анатолий Жураковский.
 Религиозная реальность открывается как реальность персоналистическая. Не безликое и безразличное Нечто, не онтологически-самопереполненное Бытие, но живая Личность обращена к человеку в опыте Богообщения. Это означает, что сама "методика" религиозного познания должна строиться по принципам диалогичности.
Религиозная реальность открывается как реальность персоналистическая. Не безликое и безразличное Нечто, не онтологически-самопереполненное Бытие, но живая Личность обращена к человеку в опыте Богообщения. Это означает, что сама "методика" религиозного познания должна строиться по принципам диалогичности.
 Первый закон диалога свидетельствует: чтобы войти в общение, необходимо обратиться к собеседнику, назвать его по имени и повернуться к нему. Сам диалог может начаться лишь с "окликания", с именования собеседника тем именем, которое приложимо лишь к нему (что особенно важно в религиозной жизни, если мы хотим избежать ошибки Фауста. Злоключения его начались тогда, когда он не стал настаивать на знакомстве со своим новым гостем: Фауст: " Как ты зовешься? " Мефистофель: " Мелочный вопрос… " ).
Первый закон диалога свидетельствует: чтобы войти в общение, необходимо обратиться к собеседнику, назвать его по имени и повернуться к нему. Сам диалог может начаться лишь с "окликания", с именования собеседника тем именем, которое приложимо лишь к нему (что особенно важно в религиозной жизни, если мы хотим избежать ошибки Фауста. Злоключения его начались тогда, когда он не стал настаивать на знакомстве со своим новым гостем: Фауст: " Как ты зовешься? " Мефистофель: " Мелочный вопрос… " ).
 Это означает, что Бог — это реальность, принципиально называемая и выразимая лишь в "звательном" падеже. Первично "Ты", вторично "Он". "Встречаясь с любимым человеком, мы не формулируем суждения: "Он существует", в крайнем случае мы восклицаем: "Ты жив!". Вера же есть познание в форме признания. Это верно, что мы слишком часто подменяем диалогизм Богопознания монологом, говорящим, по выражению Владимира Лосского, о "Боге богословских учебников". Но из того, что холодная речь о религии бывает слишком редко тождественна самому религиозному акту, никак не следует, что живому диалогу нет места в тепле самого религиозного опыта.
Это означает, что Бог — это реальность, принципиально называемая и выразимая лишь в "звательном" падеже. Первично "Ты", вторично "Он". "Встречаясь с любимым человеком, мы не формулируем суждения: "Он существует", в крайнем случае мы восклицаем: "Ты жив!". Вера же есть познание в форме признания. Это верно, что мы слишком часто подменяем диалогизм Богопознания монологом, говорящим, по выражению Владимира Лосского, о "Боге богословских учебников". Но из того, что холодная речь о религии бывает слишком редко тождественна самому религиозному акту, никак не следует, что живому диалогу нет места в тепле самого религиозного опыта.
 Вообще же величайшее отличие богослова от философа в том, что он знает, у Кого спрашивать. Образцом богословского исследования в этом смысле оказывается "Исповедь" Блаженного Августина с ее дерзновенными расспросами Бога. И напротив, бросается в глаза страшная дистанция между Августином и Кузанцем. Это дистанция между "Сейчас время не спрашивать, а исповедоваться Тебе" — и изучающе-математическим взглядом Николая Кузанского
Вообще же величайшее отличие богослова от философа в том, что он знает, у Кого спрашивать. Образцом богословского исследования в этом смысле оказывается "Исповедь" Блаженного Августина с ее дерзновенными расспросами Бога. И напротив, бросается в глаза страшная дистанция между Августином и Кузанцем. Это дистанция между "Сейчас время не спрашивать, а исповедоваться Тебе" — и изучающе-математическим взглядом Николая Кузанского [4] Бердяев это называл "томистской эйфорией" (См. Гальцева Р.А. Sub specie finis. К судьбе одной религиозно-эстетической утопии. // Социокультурные утопии ХХ века. М., ИНИОН. 1979. С. 199). Еще он признавался, что если бы до конца прочитал "Сумму теологии", то, наверно, стал бы неверующим.
. Всматривание в Бога не с молитвой, а с изучающим взглядом, подмена "Ты" молитвы на "Он" философии — это и есть духовный исток как грехов, так и ересей.
 Второй закон диалога: молчание, когда говорит собеседник. "Боже, пребывающий всегда одним и тем же! пусть я узнаю Тебя, пусть я узнаю себя! Я помолился. Deus semper idem, noverim me, noverim te. Oratum est" — так умолкает Августин, чтобы расслышать ответ. Несомненно, прерывание моего бесконечного монолога возможно лишь в том случае, если я замечу в собеседнике существо, наделенное не менее глубоким онтологическим статусом, чем я. Это означает, что как самих себя мы не воспринимаем в качестве просто вещи среди других вещей, в качестве одного из множественных фактов бытия, так и другого в событии диалога мы должны суметь отличить в потоке "вещных восприятий" и выделить его из нумерической анонимности. В любом подлинном диалоге с личностью мы должны признать автономность "объекта" нашего обращения, его неуничтожимую и неотменимую, несводимую инаковость. Иными словами, мы должны отказаться от волюнтаристического проектирования, должны признать, что смысл бытия "другого" и смысл нашей с ним встречи мы изначально не можем установить своими проектами.
Второй закон диалога: молчание, когда говорит собеседник. "Боже, пребывающий всегда одним и тем же! пусть я узнаю Тебя, пусть я узнаю себя! Я помолился. Deus semper idem, noverim me, noverim te. Oratum est" — так умолкает Августин, чтобы расслышать ответ. Несомненно, прерывание моего бесконечного монолога возможно лишь в том случае, если я замечу в собеседнике существо, наделенное не менее глубоким онтологическим статусом, чем я. Это означает, что как самих себя мы не воспринимаем в качестве просто вещи среди других вещей, в качестве одного из множественных фактов бытия, так и другого в событии диалога мы должны суметь отличить в потоке "вещных восприятий" и выделить его из нумерической анонимности. В любом подлинном диалоге с личностью мы должны признать автономность "объекта" нашего обращения, его неуничтожимую и неотменимую, несводимую инаковость. Иными словами, мы должны отказаться от волюнтаристического проектирования, должны признать, что смысл бытия "другого" и смысл нашей с ним встречи мы изначально не можем установить своими проектами.
 Митр. Антоний Сурожский рассказывает в "Школе молитвы", как однажды старая прихожанка призналась ему, что она совсем не понимает его слов о сердечном умилении, о касании Богом человеческого сердца… "Вот уже 14 лет я почти непрерывно твержу Иисусову молитву и ни разу не почувствовала присутствия Бога". "Тут я и сказал, — пишет Владыка, — что подумал: если Вы говорите непрерывно, Вы не даете Богу возможности вставить словечко… Пойдите в комнату, приберите там, поставьте свое кресло перед иконой, востеплите лампадку, сядьте, оглянитесь, и посмотрите, как Вы живете; уверен, что, поскольку все 14 лет Вы непрерывно молились, у Вас не было времени оглядеть свое жилье. Затем возьмите вязанье и в течение пятнадцати минут сидите и просто вяжите перед лицом Господа. Но не произносите ни одного слова молитвы. Просто посидите и порадуйтесь покою и уюту Вашей комнаты".
Митр. Антоний Сурожский рассказывает в "Школе молитвы", как однажды старая прихожанка призналась ему, что она совсем не понимает его слов о сердечном умилении, о касании Богом человеческого сердца… "Вот уже 14 лет я почти непрерывно твержу Иисусову молитву и ни разу не почувствовала присутствия Бога". "Тут я и сказал, — пишет Владыка, — что подумал: если Вы говорите непрерывно, Вы не даете Богу возможности вставить словечко… Пойдите в комнату, приберите там, поставьте свое кресло перед иконой, востеплите лампадку, сядьте, оглянитесь, и посмотрите, как Вы живете; уверен, что, поскольку все 14 лет Вы непрерывно молились, у Вас не было времени оглядеть свое жилье. Затем возьмите вязанье и в течение пятнадцати минут сидите и просто вяжите перед лицом Господа. Но не произносите ни одного слова молитвы. Просто посидите и порадуйтесь покою и уюту Вашей комнаты".
 Через несколько дней эта женщина вернулась в храм. Она сделала все, что советовал ей Владыка Антоний. У нее появился опыт тишины. "Я заметила, что тишина была не просто отсутствием звука и шума, что она имела другую субстанцию. Эта тишина не была отсутствием чего-то, она была присутствием чего-то. Тишина имела внутренний объем. Наружная тишина пришла и соединилась с внутренним покоем и тишиной. Внезапно я почувствовала, что тишина является присутствием. В сердце этой тишины был Он, Кто есть полная тишина, полный мир, полное равновесие"…
Через несколько дней эта женщина вернулась в храм. Она сделала все, что советовал ей Владыка Антоний. У нее появился опыт тишины. "Я заметила, что тишина была не просто отсутствием звука и шума, что она имела другую субстанцию. Эта тишина не была отсутствием чего-то, она была присутствием чего-то. Тишина имела внутренний объем. Наружная тишина пришла и соединилась с внутренним покоем и тишиной. Внезапно я почувствовала, что тишина является присутствием. В сердце этой тишины был Он, Кто есть полная тишина, полный мир, полное равновесие"…
 Третий закон — понимание того, что без желания собеседника диалог просто не состоится, несмотря на все мои усилия и приготовления и соответственно готовность принять новое и неожиданное от собеседника. Даже если этим неожиданным будет молчание
Третий закон — понимание того, что без желания собеседника диалог просто не состоится, несмотря на все мои усилия и приготовления и соответственно готовность принять новое и неожиданное от собеседника. Даже если этим неожиданным будет молчание [5] Именно этого не смог вынести и понять Лев Толстой. В "Исповеди" он рассказывает, что, решив уйти из Церкви, он, однако, напоследок попробовал еще раз пожить по всем церковным правилам. Он честно говел, ходил на службы, вычитывал молитвы… Сердце осталось глухо. Встреча не состоялась. Раздосадованный такой "необязательностью" Господа, Толстой ушел в безликий и бездиалогичный мир пантеизма
. Надо быть готовым к ситуации, когда человек сделает все от него зависящее — и все же будет пребывать в одиночестве. И препятствий нет, и желание веры есть — но еще нет самого ЕСТЬ.
Интервал:
Закладка: