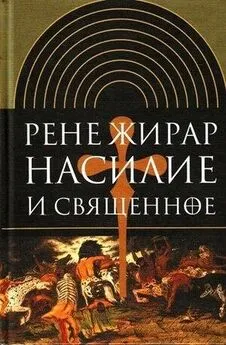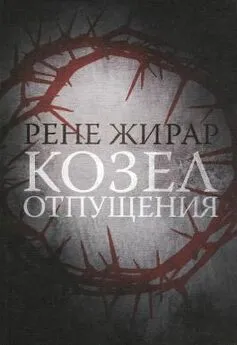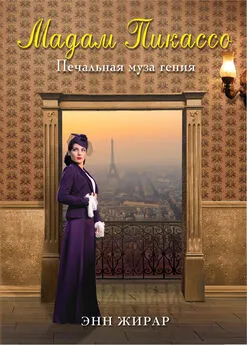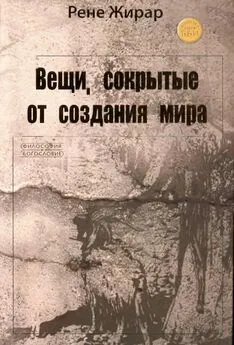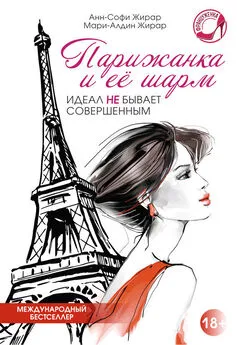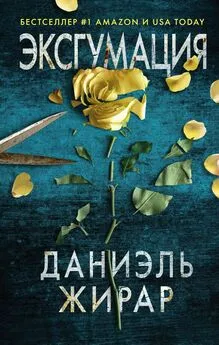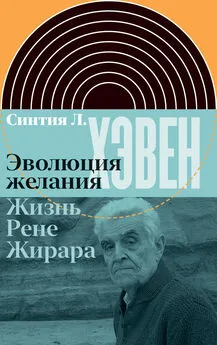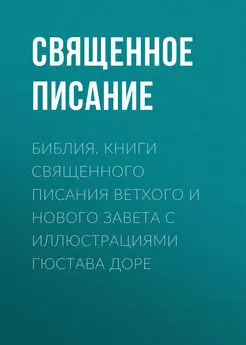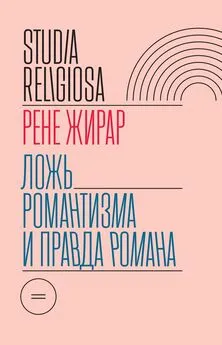Рене Жирар - Насилие и священное
- Название:Насилие и священное
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-114-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Рене Жирар - Насилие и священное краткое содержание
Рене Жирар родился в 1923 году во Франции, с 1947 года живет и работает в США. Он начинал как литературовед, но известность получил в 70-е годы как философ и антрополог. Его антропологическая концепция была впервые развернуто изложена в книге «Насилие и священное» (1972). В гуманитарном знании последних тридцати лет эта книга занимает уникальное место по смелости и размаху обобщений. Объясняя происхождение религии и человеческой культуры, Жирар сопоставляет греческие трагедии, Ветхий завет, африканские обряды, мифы первобытных народов, теории Фрейда и Леви-Строса — и находит единый для всех человеческих обществ ответ. Ответ, связанный с главной болезнью сегодняшней цивилизации.
http://fb2.traumlibrary.net
Насилие и священное - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Молодой принц влюбляется в дочь брата своей матери, то есть в свою кросс-кузину. Из тщеславной жестокости она требует, чтобы он в доказательство своей любви себя изуродовал. Юноша покрывает себе шрамами сначала левую, потом правую щеку. Принцесса его отталкивает, издеваясь над его уродством. В отчаянии принц убегает, помышляя лишь о смерти. Наконец он попадает в страну Вождя Чумы, Хозяина уродств. Вокруг Вождя теснится толпа придворных, сплошь больные и калеки; контакта с ними нужно избегать, потому что они делают подобным им самим всякого, кто откликнется на их призыв. Принц разумно не откликается. Тогда Вождь Чума решает наделить его красотой большей, чем та, какую он утратил. Пациента варят в волшебном котле, откуда вынимают его белые и чистые кости, на которые дочь Вождя несколько раз прыгает. Принц воскресает, блистая красотой.
Теперь настает очередь принцессы влюбиться в кузена. А принц, в свою очередь, требует от кузины того же, чего она потребовала от него. Принцесса покрывает шрамами обе стороны лица, и принц с презрением ее отталкивает. Желая тоже вернуть красоту, она отправляется к Вождю Чуме, но ее зовут придворные и она откликается на их приглашение. Эти калеки свободны сделать несчастную принцессу подобной им самим и даже хуже — они ломают ей кости, рвут на части, и бросают умирать.
В этом пересказе читатель узнает множество тем, которые после предыдущих разборов ему, наверно, уже хорошо знакомы. Все персонажи мифа уродуют других, требуют, чтобы те сами себя изуродовали, тщетно пытаются их изуродовать или уродуют сами себя — и все это в конечном счете одно и то же. Нельзя творить насилие и самому его не претерпеть — таков закон взаимности. В мифе все делаются подобны друг другу. Опасность, грозящая гостям Вождя Чумы от рук его народа калек, повторяет взаимоотношения кузена с кузиной. Чума и увечья обозначают одну и ту же вещь: жертвенный кризис.
В отношениях принца и принцессы сперва побеждает женщина, а проигрывает мужчина; она воплощает красоту, а он — уродство, она не желает, он желает. Затем отношение переворачивается. Перед нами различия, которые упраздняются, симметрия, которая непрестанно порождается, но которую нельзя обнаружить на основе синхронических моментов; она видна лишь при сложении последовательных моментов. Это и есть обезразличенность жертвенного кризиса, истина, вечно недоступная обоим партнерам, переживающим свои отношения в форме осциллирующего различия. Симметрия двух сторон лица, полосуемых по очереди, подчеркивает и повторяет симметрию всего соотношения. С обеих сторон, за исключением финала, мы находим одни и те же факты, но никогда — одновременно.
Между кузеном и кузиной, с одной стороны, и народом Вождя Чумы, с другой, существуют те же отношения, что и между протагонистами «Царя Эдипа» и больными чумой фиванцами. От заразы можно спастись, лишь отказавшись отвечать на призыв братьев-врагов. На уровне придворных, то есть коллектива, миф высказывается объективно; он делает то же, что делали мы сами в первых главах; он «замыкает накоротко» осциллирующее различие, и поступает правильно, поскольку оно сводится к тождеству; взаимное увеченье непосредственно выступает как утрата различий, как обретение подобия от рук тех, кого насилие уже сделало подобными друг другу. Можно ли усомниться, что речь идет о жертвенном кризисе, если обретение подобия есть в то же время и обретение чудовищности. Если калеки — двойники друг друга, они также и монстры, как и положено во всяком жертвенном кризисе.
Увеченье чрезвычайно ярким образом символизирует работу кризиса; и действительно, ясно, что оно должно толковаться и как создание уродства, ужасного и как устранение всего, что отличает, возвышается, выдается. Этот процесс вводит среди участников единообразие, упраздняет то, что их различает, но не приводит к гармонии. В идее обезображивающего и уродующего увеченья действие взаимного насилия так сильно выражено и сгущено, что оно становится странным, необъяснимым, мифологическим.
Леви-Стросс, пересказывающий этот миф в «Жесте об Асдивале», называет его «коротким романом ужасов». Назовем его лучше поразительным романом об ужасе человеческих отношений во взаимном насилии. Слово «роман» нужно сохранить. Хотя и посторонний западному миру, этот миф вводит в отношения кузена с кузиной ту пружину, которая, конечно, совпадает с пружиной трагического антагонизма или комического недоразумения в классическом театре, но точно так же напоминает и о любви-ревности в современном романе — у Стендаля, Пруста, Достоевского [93]. Можно бесконечно извлекать уроки, таящиеся за внешней странностью их тем. Принц и принцесса требуют и добиваются друг от друга той же насильственной утраты различия, какую терпят от придворных те, кто имел глупость к ним подойти. В мифе все различия стираются и исчезают, но в другом отношении они все же сохраняются. Действительно, миф никогда нам не говорит, что нет различия между придворными и двумя кузенами, ни, тем более, что его нет между самими кузенами. Миф не только не говорит ничего подобного, но в финале он окончательно разрывает симметрию между принцем и принцессой и во всеуслышание утверждает главенство различия. В отношениях между принцем и принцессой нет ничего, чем оправдывалась бы эта утрата симметрии — не говоря, разумеется, о том факте, что как и в случае Эдипа, «принцесса первая начала». Это указание на первоисток в порядке нечистого насилия никогда не бывает по-настоящему убедительно. Такими образом, мы снова сталкиваемся с противоречием «Царя Эдипа» и «Вакханок». Анализ взаимоотношений обнаруживает постоянную эрозию всех различий, действие мифа стремится к идеальной симметрии обезразличенных отношений. Но в конце концов миф рассказывает нам совсем иную историю. Даже прямо противоположную историю. Снова асимметрия сообщения противопоставлена буквально всезатопляющей симметрии на всех прочих уровнях. Все указывает на то, что это противоречие нужно связать с событием, скрытым за финалом мифа, с убийством принцессы, которая, судя по всему, играет роль жертвы отпущения. Снова единодушие всех кроме одного в коллективном насилии учреждает различия мифа, происходящие из насильственной обезразличенности, повсюду заметной в мифе.
Насилие, которое терпит принцесса от рук придворных, похоже на все предшествующие акты насилия и тем не менее радикально иное, поскольку это насилие решающее, завершающее; оно окончательно фиксирует различие, которое могло бы и дальше осциллировать между двумя протагонистами. Кидается на принцессу и голыми руками рвет ее на части вся толпа придворных, то есть вся община в кризисе; налицо все черты дионисийского «спарагмоса»; перед нами — учредительный, поскольку единодушный, суд Линча.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: