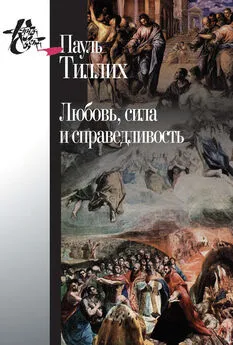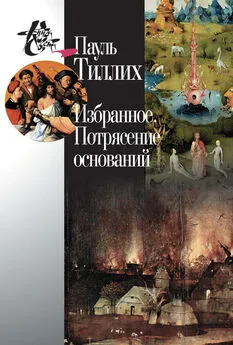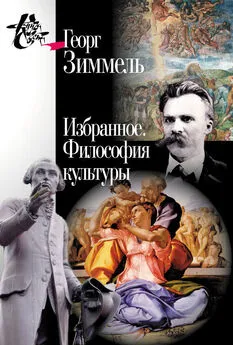Пауль Тиллих - Избранное: Теология культуры
- Название:Избранное: Теология культуры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Юрист
- Год:1995
- Город:Москва
- ISBN:5-7357-0021-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Пауль Тиллих - Избранное: Теология культуры краткое содержание
Пауль Тиллих (1886–1965) — крупнейший теолог XX века. Теология культуры, по его мнению, призвана выявить конкретный религиозный опыт, находящийся в основе культуры во всех ее проявлениях. В том вошли наиболее значительные работы: «Мужество быть», «Динамика веры», «Теология культуры», «Христианство и встреча мировых религий», «Кайрос» и др. На русском языке публикуется впервые.
http://fb2.traumlibrary.net
Избранное: Теология культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Иррациональный характер духа крестовых походов подтверждается тем обстоятельством, что сужение самопонимания христианства в результате его встречи с исламом привело и к изменению в его отношении к евреям. Христианский антииудаизм существовал еще со времен Нового Завета и особенно ярко выразился в Иоанновом корпусе. Это было связано с отказом большинства евреев признать в Иисусе Мессию. Тем не менее в ранний период христианство к ним относилось терпимо и часто даже доброжелательно: Церковь ждала их обращения. Но после потрясения, пережитого в результате встречи с исламом, христианство осознало иудаизм как другую религию, и антииудаизм стал фанатическим. Только после этого стало возможно со стороны светских властей отношение к евреям как к виновникам всех политических и экономических бед, что позволяло им переложить на евреев ответственность за собственные неудачи; и лишь с конца XIX столетия религиозный антииудаизм превратился в расистский антисемитизм, который был и до сих пор остается одной из составляющих радикальной националистической квазирелигии.
Однако встреча христианства с новой и старой мировыми религиями в период крестовых походов способствовала не только возникновению в христианстве фанатического сознания собственной исключительности, но также содействовала и постепенному формированию в нем некоторой терпимости. Тогда же, в начале XIII в., когда папа Иннокентий III издал прообраз гитлеровских нюрнбергских законов против евреев, при дворе сицилийского короля Фридриха II усилиями христиан, мусульман и евреев на основе их традиций произошло почти что чудо: возник толерантный гуманизм. Потребовалось еще одно-два столетия, чтобы эти идеи вновь получили признание и радикально изменили отношение христианства к другим религиям.
Великий кардинал, член папской курии, Николай Кузанский, в середине XV в., хотя и считался одним из столпов римской церкви, написал книгу De Расе Fidei («О согласии веры»), где рассказывается о беседе, происходившей на Небесах между представителями великих религий. Божественный Логос объясняет их единство следующим образом: «Для всех, кто живет согласно принципам Разума (Логоса-Разума), лежащим в основе разных ритуалов, существует только одна религия, только один культ… Культ богов повсюду свидетельствует о Божестве… Так в небесных высотах Логоса-Разума было достигнуто согласие всех религий».
Взгляды Николая Кузанского предвосхитили последующие изменения. Возникли идеи, которые, не впадая в релятивизм, обновили раннехристианский универсализм и даже вышли за его пределы. Такие люди, как христианский гуманист Эразм Роттердамский или протестантский реформатор Цвингли, признавали действие Божественного Духа за пределами христианской Церкви. Социниане. предшественники унитаристов и многих направлений либеральной протестантской теологии, учили о всеобщем откровении, существовавшем во все времена. Деятели эпохи Просвещения — Локк, Юм, Кант — судили христианство по степени его разумности и применяли тот же критерий для оценки других религий. Они хотели оставаться христианами, но на почве всеобъемлющего универсализма. Аналогичные идеи вдохновляли многих протестантских теологов в XIX — начале XX в. Для этой ситуации симптоматично возникновение философии религии: ведь сам термин подразумевает, что христианство включается в универсальное понятие «религия». Все это не столь безобидно, как может показаться. В те периоды, когда конкретный элемент преобладал и подавлял универсалистский, теологи уже осознавали указанную опасность и утверждали уникальность притязаний христианства, как религии откровения — в противоположность любой другой нехристианской религии. Или же христианство называли истинной религией, а все другие — лжерелигиями. Однако с исчезновением этого различия христианство, хотя оно все еще претендовало на некоторое превосходство, спустилось с пьедестала исключительности, на который его подняли теологи, и стало всего лишь одной из разновидностей религии. Итак, христианский универсализм трансформировался в гуманистический релятивизм.
Эта ситуация проявилась в том, каким образом философы и теологи соотносили христианство с другими религиями в собственных философиях религии. Так, Кант в трактате «Религия в пределах только разума» отводит христианству высокое положение, интерпретируя его символы в терминах «Критики практического разума», Фихте, опираясь на Четвертое евангелие, превозносит христианство как религию мистицизма; Шеллинг и Гегель рассматривают христианство как осуществление всего позитивного в других религиях и культурах. Шлейермахер предлагает такую конструкцию истории религий, в которой христианству отводится наивысшее место среди высших типов религий. Мой учитель Эрнст Трельч в своем знаменитом эссе «Абсолютность христианства» радикальным образом ставит вопрос о месте христианства среди других мировых религий. Как и все христианские богословы и философы, которые включали христианство в универсальную категорию религии, он истолковывает христианство как религию, наиболее адекватно реализующую возможности, подразумеваемые этим понятием. Но, поскольку само понятие религии возникло из традиции христианского гуманизма, рассуждение Трельча идет по замкнутому кругу. Сознавая это, он в своей концепции истории утверждал, что не существует всеобщей цели истории, и ограничил себя рамками собственной традиции, где христианство лишь один из элементов. Он назвал это «европеизмом», а мы сегодня, вероятно, сказали бы «Запад». Следствием такого отступления стала его поддержка отказа от миссионерства в пользу «перекрестного оплодотворения» разных религий, что должно было означать в большей мере культурный взаимообмен, чем межрелигиозное единство, основанное на принятии и отрицании. Это решение соответствовало общему направлению мысли XIX в. — позитивизму в первоначальном смысле термина — что означало — принятие эмпирически данного и отказ от всякого высшего критерия.
Тем не менее большинство теологов и членов Церкви всегда воспринимали христианство как религию исключительную и абсолютную. Они подчеркивали, что путь к спасению возможен лишь через Христа, следуя в этом общему направлению учения творцов Реформации, старопротестантской ортодоксии, а также пиетистской интерпретации их мысли. Несколько раз антиуниверсалистские движения атаковали универсалистские тенденции, окрепшие в последние столетия. Всякое отношение к мировым религиям, допускавшее, что и они могут отчасти обладать истиной, осуждалось как отрицание абсолютного притязания христианства. Из этой традиции (которая необязательно была фундаменталистской в обычном смысле слова) родилось партикуляристское направление теологии. В Европе оно получило название теологии кризиса, а в Америке именуется неоортодоксией. Ее основатель и выдающийся представитель — Карл Барт. В перспективе нашей проблемы эту теологию можно охарактеризовать как отказ от понятия религии применительно к христианству. Согласно Барту, христианская Церковь как воплощение христианства основана на единственном откровении Бога — на откровении, данном в Иисусе Христе. Все остальные религии — это увлекательные, но тщетные попытки достичь Бога, а потому отношение к ним не вызывает затруднений. Христианство безусловно отвергает их претензию на то, что они основаны на откровении. Отсюда наша тема — встреча христианства с мировыми религиями — может представлять интерес как историческая, но не как теологическая проблема. И все же сама история заставила Барта столкнуться с этой проблемой, но он встретился не с нехристианской религией. У него произошла чрезвычайно драматическая встреча с нацизмом — радикальной и дьявольской квазирелигией. Благодаря Барту европейские христианские церкви смогли оказать сопротивление натиску нацизма; радикальное самоутверждение христианства в теологии Барта делало невозможным никакой компромисс с нацизмом. Но, в соответствии с упомянутым выше законом, расплатой за столь успешную оборону стала теологическая и экклезиологическая узость, которая привела к ослеплению большинства протестантских лидеров в Европе, когда они оказались в новой для них ситуации, возникшей в результате встречи религий и квазирелигий во всем мире. Проблема миссионерства получила новую трактовку, которая противоречила не только идее Трельча о «перекрестном опылении» высших религий, но и универсализму раннего христианства. При этом следует упомянуть, что Барт и вся его школа отказались от классической доктрины Логоса, в которой этот универсализм получил наиболее ясное выражение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: