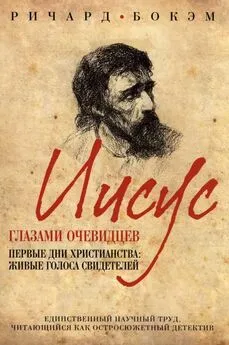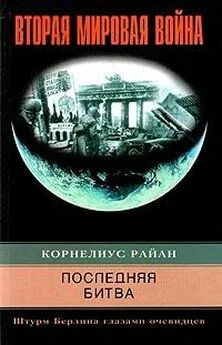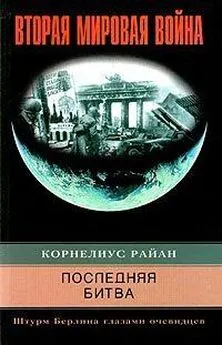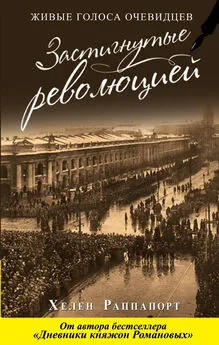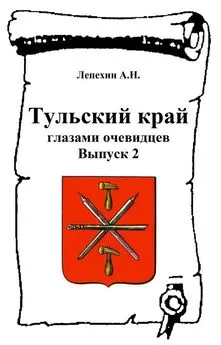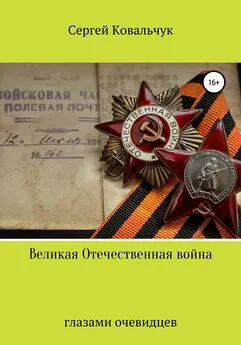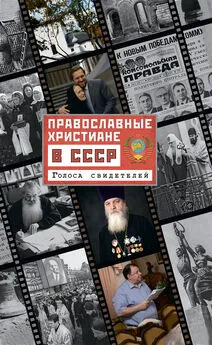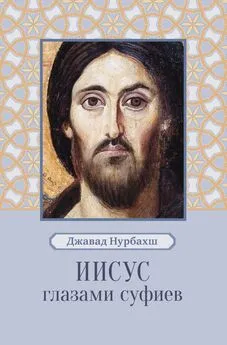Ричард Бокэм - Иисус глазами очевидцев Первые дни христианства: живые голоса свидетелей
- Название:Иисус глазами очевидцев Первые дни христианства: живые голоса свидетелей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2011
- Город:М.
- ISBN:978–5–699–46401–2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ричард Бокэм - Иисус глазами очевидцев Первые дни христианства: живые голоса свидетелей краткое содержание
Эта книга — удивительное расследование всемирно известного ученого, которое проливает свет на жизнь Иисуса и происхождение Евангелий. Сюда вошли результаты новейших исследований древней культуры, человеческого мозга, механизмов памяти. Автор объясняет, как получилось так, что слова и поступки Иисуса не были забыты и достоверно известны всему миру и теперь, и приоткрывает завесу над одной из величайших тайн Библии: тайной личности любимого ученика Иисуса, загадочного автора Четвертого Евангелия. Впервые на русском языке главный труд одного из самых авторитетных специалистов по Новому Завету.
Впервые:
Живые свидетельства всех непосредственных участников евангельских событий и древних церковных историков и апологетов, проанализированные одним из самых авторитетных исследователей Библии.
Результаты новейших исследований древней культуры, человеческого мозга, механизмов памяти и жизни первого христианского поколения.
Уникальная реконструкция цепочек, по которым устно передавались рассказы о словах и поступках Иисуса от человека к человеку.
Тайна личности анонимного любимого ученика Иисуса, загадочного автора Четвертого Евангелия.
Ричард Бокэм — специалист по Новому–Завету, профессор Университета Сент–Эндрюс ( Шотландия ), член Британской академии и Королевского научного общества Эдинбурга.
Иисус глазами очевидцев Первые дни христианства: живые голоса свидетелей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Однако для наших нынешних целей необходимо задать вопрос: если в историографии древности показания очевидцев обладали исключительной значимостью — какую роль играют они в современной историографии? В последнем разделе трехчастной статьи Денниса Найнхема «Свидетельства очевидцев и евангельская традиция» [1232]— статьи, по–видимому, убедившей многих англоязычных исследователей уделить чуть больше внимания роли очевидцев в передаче евангельских преданий, — Найнхем касается именно этого вопроса: различия в понимании роли очевидцев в древней и новой исторической науке. Рассмотрев этот вопрос, он приходит к такому заключению:
Даже если бы Евангелия состояли исключительно из показаний очевидцев, они вызывали бы вопросы у историка. Они оставались бы для него тем же, чем являются [для критики форм] и сейчас: грубой рудой, которую необходимо бросить в печь строгих критических методов, чтобы выплавить из нее благородный металл исторической истины [1233].
Это представление о сильно снизившейся ценности свидетельства очевидцев для современных историков основано на работах классика исторической методологии [1234]— французского историка Марка Блока, одного из основателей исторической «школы Анналов», и классика философии истории — Р.Дж. Коллингвуда, автора «Идеи истории» [1235].
Разумеется, между античной и современной историографией имеются существенные различия. Однако связаны они не с проблемой оценки источников. Верно, что, если в Средневековье исторические источники в целом рассматривались как заслуживающие доверия, Новое время стало свидетелем движения прочь от этой доверчивости и разработки систем оценки надежности источников. Поль Рикер считает «рождением исторической критики» разоблачение подложности «Константинова Дара», сделанное Лоренцо Валлой [1236]. Однако по–настоящему резкий контраст наблюдается между, с одной стороны, историографией позднего Рима и Средневековья — и, с другой стороны, великими историками греко–римского мира, способными трезво оценивать свои источники, поскольку они (по крайней мере, поскольку этого требовала методология) встречались с очевидцами и опрашивали их лично. Именно по этой причине, как мы не раз подчеркивали, они ограничивали себя историей недавнего времени. Развитие того метода, который Коллингвуд называет «историческим методом ножниц и клея», было вызвано желанием вырваться из этих границ и написать своего рода мировую историю — что, естественно, возможно только путем соединения воедино трудов историков прошлого, надежность коих не подвергается сомнению [1237]. Методики оценки и критики, возникшие в Новое время, появились именно в связи с необходимостью изучать такую историю, которая (как большая часть истории) недоступна историку ни лично, ни через свидетельства очевидцев.
Еще одним достижением современной исторической методологии стало обширное и все возрастающее использование нелитературных источников, вошедшее в научный обиход вместе с развитием археологии как систематической дисциплины. Но это лишь дополнение к поистине революционному перевороту: историки современности научились извлекать из источников такие сведения о прошлом, для передачи которых источники не предназначались. Современный историк подходит к письменному источнику, автор которого стремился сообщить нечто своим читателям, практически так же, как к источнику нелитературному. Из письменных источников он извлекает всевозможные исторические сведения по таким темам и вопросам, какие их авторы и не думали освещать, не подозревая, что читатели ими заинтересуются. С этой точки, зрения тексты, весьма недостоверные по части сообщаемых в них исторических сведений, могут оказаться не менее ценным историческим источником, чем надежные и достоверные сообщения. Так, многие исследователи Евангелий полагают, что, даже если целью евангелистов было рассказать христианам об Иисусе и даже если с точки зрения исторической биографии Иисуса Евангелия крайне недостоверны — они представляют собой ценные источники по истории христианских общин, в которых и для которых были написаны. Легко привести и множество других, не столь спорных примеров.
В этой связи Блок называет источники, как письменные, так и неписьменные, «невольными свидетельствами».
Источники–повествования… то есть сообщения, сознательно преследующие цель о чем–либо информировать читателей, и в наше время оказывают ученым неоценимую помощь. Среди прочих своих достоинств, как правило, только они дают возможность установить хронологическую последовательность событий… Однако нет сомнений, что в ходе своего развития историческое исследование постепенно все больше и больше внимания уделяет свидетельствам второй категории — невольным свидетельствам [1238].
Многие «следы» прошлого, как называет их Блок, — это «невольные» свидетельства; но даже в свидетельствах «намеренных», даже в тех,
…чей текст стремится нечто нам сообщить — отнюдь не это сообщение становится первоочередным предметом нашего исследовательского внимания. По меньшей мере три четверти житий святых Высокого Средневековья не рассказывают нам ничего конкретного о благочестивых героях, чей жизненный путь они призваны описать. Однако, если мы обратимся к ним в поисках сведений о жизни или мышлении людей той эпохи (вопросы, которым биограф святого не считал нужным уделять внимание), то увидим, что они бесценны. Хоть мы и обречены подчиняться прошлому, но сейчас, по крайней мере, до некоторой степени освободились из–под его власти: мы обречены изучать прошлое лишь по его «следам» [1239], но теперь нам удается узнавать намного больше того, что само прошлое о себе рассказывает. Строго говоря, это блестящая победа духа над материей [1240].
Блок дает точное и имеющее важное значение описание того, как исторические источники «невольно» рассказывают нам о прошлом. Этот метод мы часто использовали в нашей книге (например, ни один древний писатель не ставил себе целью рассказывать нам о сравнительной популярности различных имен у палестинских иудеев первого столетия). В сущности, в наши дни этот метод стал само собой разумеющимся для любого, кто занят историческими изысканиями. Однако стоит заметить: ничто в современной исторической методологии не запрещает нам читать свидетельства прошлого как таковые и извлекать из них именно то, о чем они хотят нам рассказать. Все зависит от того, какие мы задаем вопросы.
В преуменьшении того интереса, который могут представлять для современного историка сознательные сообщения источников, Блок, возможно, проявляет свойственное современности высокомерие по отношению к прошлому. В Средневековье ученые считали себя карликами, стоящими на плечах гигантов, и полагали, что только благодаря предкам имеют возможность видеть дальше них. Для современности же более характерно чувство победы над прошлым, освобождения от него, выраженное в тезисе Блока, что «мы узнаем о прошлом гораздо больше того, что оно хотело бы нам рассказать». Современный историк — независимый мыслитель, освобожденный от пут традиции и, подобно ученому–естественнику, производящий знания, которыми никто до него не обладал. Эта независимость историка от «прошлого» (которое Блок странным образом одушевляет) приобретает еще более триумфальные обертоны у Коллингвуда.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: