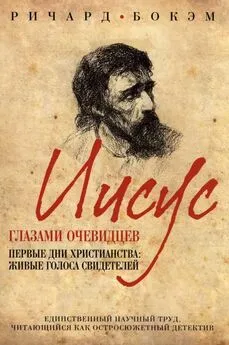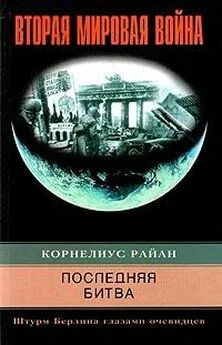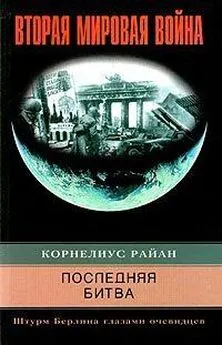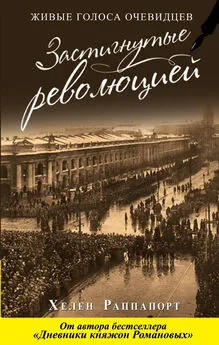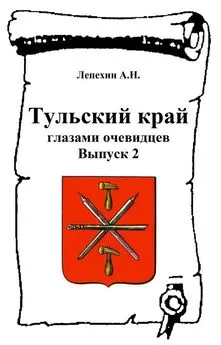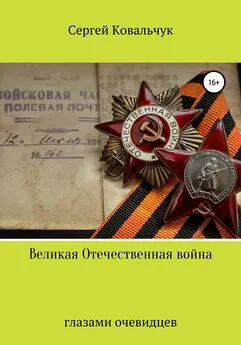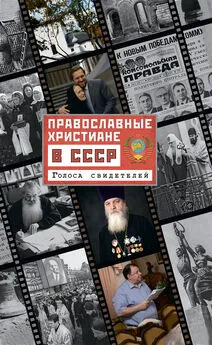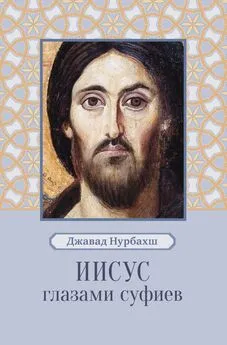Ричард Бокэм - Иисус глазами очевидцев Первые дни христианства: живые голоса свидетелей
- Название:Иисус глазами очевидцев Первые дни христианства: живые голоса свидетелей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2011
- Город:М.
- ISBN:978–5–699–46401–2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ричард Бокэм - Иисус глазами очевидцев Первые дни христианства: живые голоса свидетелей краткое содержание
Эта книга — удивительное расследование всемирно известного ученого, которое проливает свет на жизнь Иисуса и происхождение Евангелий. Сюда вошли результаты новейших исследований древней культуры, человеческого мозга, механизмов памяти. Автор объясняет, как получилось так, что слова и поступки Иисуса не были забыты и достоверно известны всему миру и теперь, и приоткрывает завесу над одной из величайших тайн Библии: тайной личности любимого ученика Иисуса, загадочного автора Четвертого Евангелия. Впервые на русском языке главный труд одного из самых авторитетных специалистов по Новому Завету.
Впервые:
Живые свидетельства всех непосредственных участников евангельских событий и древних церковных историков и апологетов, проанализированные одним из самых авторитетных исследователей Библии.
Результаты новейших исследований древней культуры, человеческого мозга, механизмов памяти и жизни первого христианского поколения.
Уникальная реконструкция цепочек, по которым устно передавались рассказы о словах и поступках Иисуса от человека к человеку.
Тайна личности анонимного любимого ученика Иисуса, загадочного автора Четвертого Евангелия.
Ричард Бокэм — специалист по Новому–Завету, профессор Университета Сент–Эндрюс ( Шотландия ), член Британской академии и Королевского научного общества Эдинбурга.
Иисус глазами очевидцев Первые дни христианства: живые голоса свидетелей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Александер так подытоживает свое исследование этого топоса:
Мы видим, что поговорка о «живом голосе» имела широкое хождение в общем смысле; однако можно выделить три культурных поля, в которых она применялась в более конкретных значениях. В риторике она подчеркивает центральное значение живого выступления. В среде ремесленников — выражает распространенное ощущение сложности, почти невозможности усвоения практических навыков по книгам, без живого примера. И, наконец, в школе вообще служит напоминанием о приоритете личных наставлений над изучением (или написанием) учебников [62] Там же, 242.
.
Во всех этих случаях поговорка относится к непосредственному опыту говорящего, будь то оратор или учитель, а не к передаче традиции на протяжении поколений. С устной традицией она может быть связана разве что в контексте школы [63] Там же, 232–233.
; но и здесь упоминаемый в пословице «живой голос» принадлежит не устной традиции, а конкретному преподавателю, обучающему учеников с помощью устных наставлений. Следовательно, как указывает Гарри Гэмбл, «Папий высоко ставит не устную традицию как таковую, а сведения из первых рук. Он старался получать информацию из первых рук везде, где только мог, и определенно предпочитал такой способ получения информации всем остальным» [64] H.Y.Gamble, Books and Readers in the Early Church (New Haven: Yale University Press, 1995) 30–31.
.
Историографию Александер не упоминает, и в сохранившихся до наших дней работах античных историков поговорка о живом голосе не встречается. Есть, однако, другая, равнозначная по смыслу пословица, употребляемая тем же Галеном: он пишет, что «лучше быть очевидцем (autoptês) дел мастера, чем уподобляться тем, кто правит свой путь по книгам» [65] Galen, Temp. med. 6 pref. (Kühn XI. 796–797), также цитируется в: Galen, De libr. propr. 5 (Kühn XIX. 33); оба отрывка приведены в переводе Alexander, "The Living Voice", 228; ср. Alexander, The Preface, 83.
. Эту пословицу, как и поговорку о живом голосе, Гален применяет к обучению ремеслу; однако то же выражение приводит Полибий, историк, писавший за три столетия до Галена, сравнивая историографию с врачебным искусством (12.15d.6). Об этом он говорит в ходе суровой критики историка Тимея, полностью полагавшегося на письменные источники. Стоит отметить, что Полибий вообще любит слово autoptès («очевидец») [66] Об использовании этого слова у Полибия см. Alexander, The Preface, 35–36.
, характерное, как показывает Александер, для медицинской литературы (как в приведенной цитате из Галена) [67] Alexander, The Preface, 121–122.
. Хотя само это слово у историков в целом встречается редко, Полибий использует его для описания центрального в античной историографии понятия: важность непосредственного личного знания описываемого предмета — знания либо самого историка, либо, по крайней мере, его информанта. Продолжая критику Тимея, Полибий пишет, что существуют три типа исторического (как и любого иного) изыскания: один из них основан на зрении и два — на слухе. Исследование путем видения — это непосредственное личное знание историком мест или событий, о которых он пишет: метод, высоко ценимый античными историками, которому Полибий, как и Фукидид и другие, отдавал первое место. Один из путей исследования путем слышания — чтение мемуаров (hypomnèmata) (в древнем мире тексты всегда читались вслух, даже если читатель читал их для себя) [68] Ср. B. Gerhardsson, The Reliability of the Gospel Tradition (Peabody: Hendrickson, 2001) 113–114.
; Тимей основывался на этом методе полностью, однако Полибий ставит его на последнее место. Более важна для Полибия другая форма исследования через слышание — расспросы (anakriseis) живых свидетелей (12.27.3).
Как напоминает нам Самуэль Бирског и как мы отмечали в предыдущей главе, античные историки, полагавшие, что полноценному исследованию и воспроизведению поддается лишь новейшая история, сохранившаяся в живой людской памяти, превыше всего ценили непосредственное участие историка в событиях, о которых он писал (то, что Бирског называет свидетельством); вторым по достоверности источником считались воспоминания живых очевидцев, которых историк мог лично расспросить (то, что Бирског называет косвенным свидетельством) [69] Byrskog, Story, 48–65; см. также Alexander, The Preface, 33–34.
. В некоторых случаях этот источник мог расширяться и включать в себя беседы историка с людьми, расспрашивавшими очевидцев; однако общим принципом оставался личный контакт с очевидцами — и, следовательно, этот принцип нельзя понимать как общую декларацию превосходства устной традиции над письменными источниками. Разумеется, не мешал он историкам и писать собственные книги — ведь их целью, среди всего прочего, было именно зафиксировать воспоминания, в противном случае неизбежно исчезающие из памяти общества, сделать их, говоря знаменитыми словами Фукидида, «общим достоянием на все времена» (1.22.4) [70] Цит. по: Лукиан, Как надо писать историю r 42. Геродот также говорил, что пишет «для того, чтобы [память о] прошлом не изгладилась со временем» (1.1). См. Byrskog, Story, 122–123.
.
Именно в этот историографический контекст лучше всего укладываются слова Папия о «живом голосе». Эту поговорку, употребляемую, как мы видели, в различных контекстах, нетрудно применить и к известному предпочтению свидетельств очевидцев перед письменными источниками, свойственному лучшим историкам. К этой ситуации поговорка подходит не хуже, чем к непосредственному обучению у мастеров–ремесленников или философов. В историографическом контексте Папий предпочитает книгам не устную традицию как таковую, а доступ к живым людям, бывшим свидетелями и участниками исторических событий, — в его случае «учеников Господних». Он описывает свое исследование по образцу исторических изысканий, обращаясь к «наилучшему методу» историографов (хотя на практике, бесспорно, многие историки пользовались письменными источниками намного шире, чем предписывала им теория) [71] D.Aune, "Prolegomena to the Study of Oral Traditions in the Hellenistic World", in H.Wansbrough, ed., Jesus and the Oral Gospel Tradition (JSNTSup 64; Scheffield: Scheffield Academic, 1991), 81, также полагает, что Папий «видел в себе историка»: см. также D. Aune, The New Testament in Its Literary Environment (Philadelphia: Westminster, 1988) 67 (Русское издание: Ауни Д. Новый Завет и его литературное окружение. — СПб.: Российское Библейское общество, 2000. — Прим. ред.).
. То, что он сам записал собранные им предания — вовсе не парадоксально, как полагают некоторые ученые. Именно так и действовали историки. Что бы ни говорил о его глупости явно предубежденный против него Евсевий, Папий был образованным человеком [72] О его знании риторики см.: Kürzinger, Papias, 43–67.
и, весьма вероятно, читал Полибия. Строгие историографические принципы Полибия и Фукидида стали для позднейших историков своего рода идеалом, которого надлежало придерживаться, по крайней мере, на словах. Александер полагает, что Иосиф Флавий также зависит от Полибия, когда утверждает, что писать историю Иудейской войны позволяет ему статус очевидца (autoptès) и участника событий [73] Alexander, The Preface, 38–39; цит.: Полибий, 3.4.13 и Иосиф Флавий, Против Лпиона, 1.55.
.
Интервал:
Закладка: