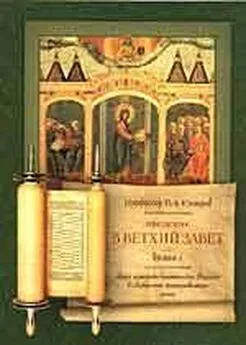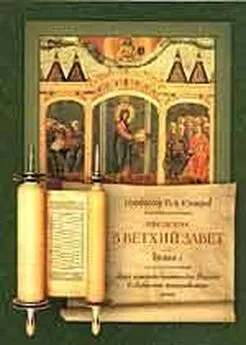Уолтер Брюггеман - Введение в Ветхий Завет Канон и христианское воображение
- Название:Введение в Ветхий Завет Канон и христианское воображение
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Библейско–богословский институт св. апостола Андрея
- Год:2009
- Город:М.
- ISBN:5–89647–154–8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Уолтер Брюггеман - Введение в Ветхий Завет Канон и христианское воображение краткое содержание
Это одно из лучших на сегодняшний день введений в Ветхий Завет. Известный современный библеист рассматривает традицию толкования древних книг Священного Писания в христианском контексте. Основываясь на лучших достижениях библеистики, автор предлагает богословскую интерпретацию ветхозаветных текстов, применение новых подходов и методов, в особенности в исследовании истории формирования канона, риторики и социологии, делает текст Ветхого Завета более доступным и понятным современному человеку.
Это современное введение в Ветхий Завет рассматривает формирование традиции его толкования в христианском контексте. Основываясь на лучших достижениях библейской критики, автор предлагает богословскую интерпретацию ветхозаветных текстов. Новые подходы и методы, в особенности в исследовании истории формирования канона, риторики и социологии, делают текст Ветхого Завета более доступным и понятным для современного человека. Рекомендуется студентам и преподавателям.
Издание осуществлено при поддержке организации DiakonischesWerkderEKD (Германия)
О серии «Современная библеистика»
В этой серии издаются книги крупнейших мировых и отечественных библеистов.
Серия включает фундаментальные труды по текстологии Ветхого и Нового Заветов, истории создания библейского канона, переводам Библии, а также исследования исторического контекста библейского повествования. Эти издания могут быть использованы студентами, преподавателями, священнослужителями и мирянами для изучения текстологии, исагогики и экзегетики Священного Писания в свете современной науки.
Введение в Ветхий Завет Канон и христианское воображение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нетрудно понять, почему слова о надежде и открывающейся возможности, запечатленные в этих двух стихах, настолько важны для евреев. Более того, нетрудно понять, как эти слова вошли в современную жизнь, став рациональной основой для современного Государства Израиль. Это совершенно особое государство, способное помнить и, — с другой стороны, — пытающееся забыть то, о чем тоже следует помнить.
Как бы то ни было, заключительные слова еврейской Библии (2 Пар 36:22–23) прямо противоположны последним стихам христианского Ветхого Завета (Мал 4:5–6). Оба обещания относятся к будущему, но это будущее видится совершенно по–разному. Важно уважать эту разницу, относиться к ней серьезно: иудаизм сосредотачивается на земле обетованной и Торе, христианство — на Мессии, грядущем и к язычникам и к Израилю:
Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко,
по слову Твоему, с миром,
ибо видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицем всех народов,
свет к просвещению язычников
и славу народа Твоего Израиля.
Эта различие очень важно, и не следует пытаться смягчить его. Однако то, что находится вне этого различия, евреи и христиане должны стремиться прочитывать вместе, насколько это возможно (Brueggemann 2003). И Мал 4:5–6, и 2 Пар 36:22–23 — предсказания, благодаря которым становится ясно, что Бог может сотворить для народа книги чудо, которое мы не в состоянии даже представить (см. 1 Ин 3:2). Нам остается только продолжать читать текст, задумываясь об отличиях, уважая их и ценя общее будущее во всех его проявлениях, уготованное Богом, в руках которого указанное будущее и находится.
Глава 28. Основные выводы по Писаниям
Проанализировав третью часть канона еврейской Библии во всем ее многообразии, мы можем вспомнить тезис Донна Моргана о том, что она представляет собой своего рода «диалог» с двумя первыми частями, Торой и Пророками, имевший место в контексте послепленного иудаизма (Morgan 1990). На самом деле вопрос о том, до какой степени контекст должен влиять на интерпретацию данных текстов, остается спорным. С уверенностью можно говорить лишь о следующем: (а) иудаизм в ту эпоху занимал маргинальное положение в условиях иной господствующей культуры; (б) контекст, в котором появились книги раздела «Писания», существенно обогатил творческую мысль евреев. Для того чтобы понять суть раздела «Писания», очень важно помнить об этих факторах. Столь широкий набор текстов отражает богатое разнообразие жизни и веры, не только допускавшееся в иудаизме послепленного периода, но и ставшее необходимостью. В то время в иудаизме, хорошо это или плохо, не существовало целого ряда институтов, таких, например, как монархия. Не обладал абсолютной властью над общиной и Храм. Следовательно, книги раздела «Писания», появившиеся в это время, отражают многочисленные попытки правдиво описать и придать определенный смысл жизни общины, причем все они равны по своей значимости и ни один из голосов так и не стал доминирующим, заглушив остальные. Подобный плюрализм — очень важная характеристика третьей части канона, особенно для современных христианских интерпретаций, когда самые разные обстоятельства толкают
Церковь к единению в стремлении преодолеть сбивающее с толку разнообразие. (Пятикнижие тоже вобрало в себя несколько разных тенденций, присущих разным «источникам»; разнообразие характерно и для пророческих книг: Книги Исайи, Иеремии и Иезекииля представляют собой не просто разные, но, возможно, соперничавшие друг с другом интерпретаторские традиции.)
Из–за столь богатого литературного разнообразия, отражающего различные настроения внутри общины и разные интерпретаторские традиции, очень трудно сделать общие выводы по третьей части канона. Тем не менее я рискну выделить три особенности, которые, на мой взгляд, характерны в той или иной мере для всех книг раздела «Писания».
1. Джек Майлз в своем любопытном «биографическом» описании Бога Ветхого Завета обратил внимание на относительную «пассивность Бога» в последних библейских книгах по сравнению с ранними книгами (Miles 1995). По его мнению, после драматической развязки Книги Иова Бог вмешивается в земные дела гораздо меньше. Затем Майлз очень загадочно характеризует Бога:
Во всех этих книгах Израиль сам заботится о собственной жизни. Элохим и Яхве все еще почитаемы, но их дом перемещается на небеса. От них почти не ожидают участия в земных делах. Закон Саваофа кодифицируется и переписывается, но гарантом его исполнения становится именно человек. Ежегодно воспроизводится религиозное действо, основанное на эпической истории отношений Израиля с его богами
(Miles 1995, 401).Говоря об «Элохиме», «Яхве» и «Саваофе», Майлз имеет в виду всех «богов», удалившихся с арены человеческой жизни. По его мнению, в Песне Песней «мирской дух делает маргинальным не только Израиль, но и самого Бога» (там же, 405). Книга же Руфь подтверждает и укрепляет это «новое веяние»:
Таким образом, порой гнетущее молчание Господа Бога скрыто за все растущим шумом и гамом человеческой жизни. Бог молчит в Книге Плач Иеремии, Книгах Екклесиаста, Есфирь и в Книге Даниила. К счастью, он продолжает всего лишь молчать и в Книге Притчей Соломоновых, Песне Песней и в Книге Руфь. Его молчание не приобретает никакого нового импульса и не становится оглушительным. Он совершенно беззвучен. Взаимоотношения Бога с человеком уже никогда не достигнут накала, описанного в последних главах Книги Иова (Miles 1995, 405–406).
Майлз, к его чести, не позволяет собственным представлениям о Боге влиять на восприятие текста. Он признает, что в Книгах Ездры, Неемии и Хроник
внезапно, словно лишенная способности двигаться, пришвартованная к берегу лодка, покачивающаяся вперед–назад на поднимающихся волнах, мы снова оказывается захваченными историческим повествованием. Господь Бог снова занимает почетное место, хотя теперь Он скорее побуждает к действию, нежели действует сам. Его «возвышенные помышления», воспетые в псалмах, напоминающие о Его связи с физическим миром, теперь объективируются, присваиваются каждому члену общины. Эти помышления облекаются в форму письменного закона, о соблюдении которого все приносят клятву и под которым некоторые записывают свои имена. Ближайшие соседи относятся к Израилю враждебно, но и они признают, что нет бога, кроме Господа Бога Израиля. Так же поступает и царь Персии. Неемия ездит туда и обратно, постоянно находясь между Иерусалимом и Сузами, столицей Персии. На смену сынам Израиля в земле обетованной пришло мировое еврейство
(Miles 1995, 406).Майлз шутливо называет Неемию «первым днем в спокойной жизни Бога»:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: