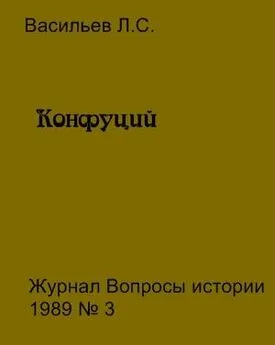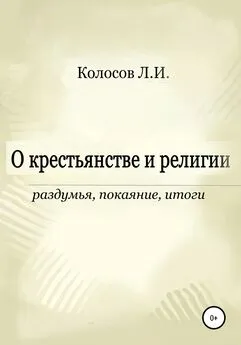Леонид Васильев - Культы, религии, традиции в Китае
- Название:Культы, религии, традиции в Китае
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Ломоносовъ»77e9a3ea-78a1-11e5-a499-0025905a088e
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91678-254-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Васильев - Культы, религии, традиции в Китае краткое содержание
Книга Леонида Васильева адресована тем, кто хочет лучше узнать и понять Китай и китайцев. Она подробно повествует о том, , как формировались древнейшие культы, традиции верования и обряды Китая, как возникли в Китае конфуцианство, даосизм и китайский буддизм, как постепенно сложилась синтетическая религия, соединившая в себе элементы всех трех учений, и как все это создало традиции, во многом определившие китайский национальный характер. Это рассказ о том, как традиция, вобравшая опыт десятков поколений, стала образом жизни, в основе которого поклонение предкам, почтение к старшим, любовь к детям, благоговение перед ученостью, целеустремленность, ответственность и трудолюбие. А также о том, как китайцам удается на протяжении трех тысяч лет сохранять преемственность своей цивилизации и обращать себе на пользу иноплеменные влияния, ничуть не поступаясь собственными интересами. Леонид Васильев (1930) – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института востоковедения Российской АН.
Культы, религии, традиции в Китае - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
84
Примерно такое же соотношение крупных, средних и мелких монастырей сохранялось в Китае и позже, невзирая на значительные изменения в судьбах китайского буддизма после преследований IX века и других исторических перемен. Так, в XX веке в Китае насчитывалось около 100 крупных монастырей в среднем со 130 монахами в каждом и около 200 средних с 50 – 75 монахами. Это была своеобразная элита буддийского монашества, его высший и наиболее ученый слой. Остальные 95 процентов полумиллионного отряда буддийских монахов жили при небольших храмах и пагодах, являясь своеобразным «клерикальным пролетариатом» [769, 3 – 4].
85
Иногда официальный диплом давался также специальным императорским указом (например, по случаю дня рождения императора, обычно в объеме не свыше одного процента от уже имеющегося в данном районе числа монахов). Нередко такие дипломы даже продавались [268, 246 – 248], что приносило немалый доход казне или ловкому чиновнику-администратору.
86
Как показывают подсчеты, содержание монахов в больших монастырях обходилось весьма недешево. На питание и одежду уходило примерно 30 тысяч монет в год, что было в пять раз выше годового заработка наемного слуги [268, 250].
87
А. Форке, например, ставит Чжу Си выше Конфуция и Лао-цзы, сравнивая этого мыслителя с Аристотелем и Фомой Аквинским [399, 201 – 202].
88
Это описание приводится во многих синологических трудах и относится к ритуалам, исполнявшимся в храме Неба при последней китайской династии Цин [12, 97 – 102; 15; 65, 459 – 461; 294, 17 – 31; 364; 11 – 31; 459, 190 – 193; 475, 220 – 235].
89
Интересно, что в обстоятельном описании всех праздников, отмечавшихся в Пекине на рубеже XIX – XX веков, нет упоминания о праздниках в честь Юйхуана шанди, как и вообще упоминания его имени [734].
90
Это, разумеется, никак не препятствовало тому, что многих из чэн-хуанов в народе считали и именовали бодисатвами, особенно на юге страны, где термином пуса называли вообще почти любое божество [II, 159]. К этому следует добавить, что и сами буддисты, видимо, не имели ничего против такого расширительного толкования термина «бодисатва». Во всяком случае, этим термином именовали, например, Конфуция [554].
91
В качестве примера влияния чэн-хуана и почтительного страха перед ним может послужить практика судебного разбирательства в позднесредневековом Китае. Считалось, что чэн-хуана нельзя ни обмануть, ни подкупить. Поэтому в его храме решались наиболее трудные судебные дела: согласие принести клятву и принесение ее перед лицом чэн-хуана рассматривалось как свидетельство невиновности поклявшегося и обычно предусматривало решение дела в его пользу. Страх перед божеством, боязнь ужасной судьбы на том свете бывали настолько сильны, что ложные клятвы представляли редчайшее исключение, тем более что на этот счет существовали многие назидательные истории со страшным концом (некто ложно поклялся, и в ту же минуту его сына разбил паралич и т. п.) [80, 100 – 101].
92
Вся эта гигантская система существовала в основном для простого народа. Рационалистически мыслящие конфуцианцы относились к ней иначе, не стесняясь подчас заявлять, что «боги сами не являются сверхъестественными существами – они становятся таковыми в умах тех, кто верит в них» [199, 63].
93
По другой версии, впоследствии зафиксированной в ряде позднесредневековых сборников легенд, был лишь один великий Лунван. Как и все божества, он имел свою биографию, восходящую к эпохе иньского Чжоу Синя. Кроме него существовало пять драконов рангом поменьше [459, 155 – 176].
94
Подразумевается, что этот волшебный сосуд умножал богатство, деньги. Однако в других фольклорно-мифологических сюжетах сосуд мог выполнять иные функции. Так, в одной из хорошо известных в Китае сказок-притч рассказывается, что такой сосуд достался злому и жадному богачу. Предвкушая наживу, богач приготовился бросить туда деньги, однако прежде в сосуд решил заглянуть его отец, но не удержался и упал внутрь. Богач вытащил отца, а в сосуде – еще один. Так одного за другим доставал он своих «отцов», каждого из которых он теперь обязан был содержать.
95
Как известно, почти все крупные прозаические произведения, в том числе романы, обычно не читались, во всяком случае в низах китайского общества, а пересказывались мастерами-сказителями.
Интервал:
Закладка: