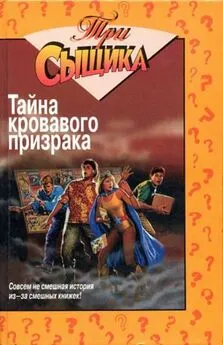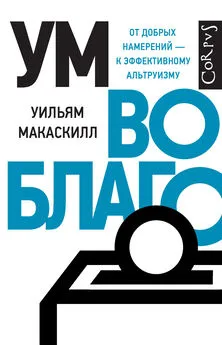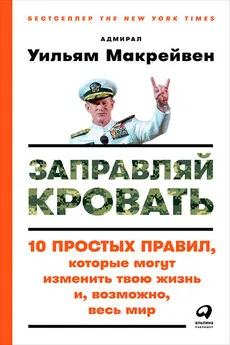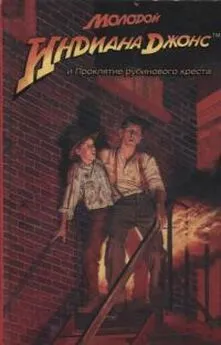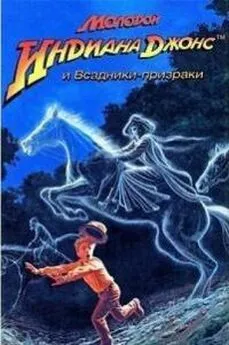Уильям Мак-Нил - В погоне за мощью
- Название:В погоне за мощью
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО»
- Год:2008
- Город:МОСКВА
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Уильям Мак-Нил - В погоне за мощью краткое содержание
Эта книга написана настолько прозрачным языком – который стоило немалого труда сохранить при переводе на русский – что фундаментальное исследование Уильяма Мак-Нила запросто можно счесть за популярный бестселлер. Тем более, что речь здесь идет об одном из архетипических предметов коммерческой книжной популяризации – истории изобретения всевозможных «чисто мужских» смертоносных железок вроде арбалетов, мушкетов, алебард, пушек, митральез, торпед и прочих порою завиральных «свинтопрульных агрегатов». В сущности, все так и есть. Эта книга, среди прочих ее достойных качеств, еще и бестселлер, который вот уже более двадцати пяти лет с момента первой публикации остается в списке наиболее продаваемых книг солидного Издательства Чикагского университета.
Прим OCR - все-таки американо-английские авторы периодически не могут удержаться от некоторых характерных оборотов в отношении России/СССР. Например в Крымскую кампанию российская армия характеризуется так: "Мериться силами с подобным монстром и вдобавок победить было подвигом для французских и британских экспедиционных сил". Это при полном техническом преимуществе в вооружении и примерном равенстве в числе войск!
В погоне за мощью - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Для осуществления объявленного выше были основаны школы, в которых кадеты могли получить образование, необходимое для производства в офицеры, а офицеры-быть проэкзаменованными на предмет повышения. Школы офицеров-артиллеристов давно действовали в каждой европейской армии, поскольку техника артогня была достаточно сложной для восприятия( 60*) . Однако обязательность обучения в школах для всех офицеров и введение экзамена для проверки уровня усвоенного до выпуска, чтобы каждый показал соответствие получению звания или повышению, было новой идеей( 61*) . Французская армия непродолжительное время экспериментировала с подобным положением 1790г., однако в горячке революционного энтузиазма система, предоставлявшая офицерское звание образованным, казалась излишне социально привилегированной( 62*) Наполеон продолжил эту политику, так что французский офицерский корпус превратился в группу закаленных ветеранов, в среде которых преобладало недоверие к книжным образованию и идеям. Неприятие интеллектуализма в русской, британской и австрийских армиях было столь же сильным, поскольку в последних идеи и идеологии имели свойство ассоциироваться с революционной Францией.
Среди офицерского корпуса Пруссии антиинтеллектуализм не исчез сам по себе лишь по той причине, что новые положения обязывали офицеров учиться в школе и сдавать экзамены. После 1819 г. принципы повеления 1808 г. были изменены и зачастую нарушались предоставлением особых привилегий соискателям из числа знати. Однако дух реформистских идеалов был стоек, и с 1808 г. ряд прусских офицеров был обязан занимаемой должности своим умственным достоинствам. Эти офицеры поддерживали друг друга в стремлении разрешения новых проблем и использования новых возможностей – сильно напоминая стиль и настрой генерала Грибоваля.
Создание Генерального штаба в 1803 – 1809 гг. предоставило образованным и энергичным офицерам «организационную цитадель» внутри прусской армии. Назначения производились лишь при условии, если соискатель более высокой должности доказывал соответствие ее требованиям в школе совершенствования офицеров. Предложение, что Генеральный штаб должен отвечать за планирование возможных военных кампаний в мирное время, вначале было воспринято как радикальное и сомнительное. Для этой цели было необходимо собирать топографические и иные разведданные, изучать достижения и ошибки кампаний прошлых лет, а также критически подходить к тактике и стратегии, условно отрабатываемым в ходе маневров мирного времени. Таким образом, штабные офицеры становились коллективным мозговым аппаратом прусской армии, стремившимся систематически задействовать осмысление и расчет во всех областях управления войсками и ведения боевых действий. Связь с войсковыми частями и их командирами поддерживалась благодаря практике откомандирования офицеров Генерального штаба к каждому нижестоящему штабу. Там от них ожидали приложения специализированных знаний в технической и снабженческой областях, чтобы помочь командиру советом относительно наилучшего выполнения его замысла.
Отдача от сотрудничества между отшлифованным знанием и решительным командованием не замедлила проявиться в 1813 -1815 гг. Генерал старой прусской школы Герхард фон Блюхер (1742-1819 гг.) обрел в лице сначала Шарнхорста (вплоть до его смерти от ранения в 1813 г.), а затем близкого соратника последнего, графа Августа фон Гнейзенау (1760-1831 гг.), начальника штаба, который мог переводить его замыслы на язык подробных оперативных приказов, предвидевших и заранее разрешавших множество факторов, которые иначе воспрепятствовали бы точному исполнению задуманного. Заранее зная благодаря картам характер определенной местности, компетентный штабной офицер мог рассчитать на основе приобретенного опыта и логики скорость продвижения обоза, артиллерии или пехотной части. Это позволяло определить время, необходимое для выполнения передвижений – а дальнейшее уточнение, кому выступать и в каком порядке, проводилось с точностью, позволявшей командиру осуществление гораздо более полного и эффективного контроля над своими войсками.
Блюхер глубже других прусских командующих осознавал значимость этого факта. Он уважал мнение своих штабных специалистов и полагался на него значительно больше, нежели это готовы были сделать Наполеон и другие полководцы того времени. Отношения Блюхера с Шарнхорстом и Гнейзенау продолжали оказывать воздействие на военное дело Пруссии и после 1815 г., хотя престиж штабных офицеров окончательно устоялся лишь во второй половине века. В австро-прусской войне 1866 г. Хельмут фон Мольтке (1800-1891 гг.) показал, насколько планирование Генерального штаба ускорило стратегическое развертывание огромного количества людских сил путем заблаговременного расчета всего необходимого, и облегчило контроль над этим развертыванием.
Пруссаки также остались верными принципу всеобщей воинской повинности в мирное время. Это отчасти объясняется эмоциональным воздействием 1813 -1814 гг., когда собранная второпях армия, в которой бывших гражданских было больше, нежели собственно солдат, одержала вместе с союзниками ряд побед над французам( 63*) . Однако эмоциональные переживания были не единственным фактором: бюджетная слабость послевоенной Пруссии не позволяла содержание сравнимой с австрийскими, русскими или французскими войсками армии с длительным сроком службы личного состава. Для того чтобы хотя бы потенциально считаться великой державой, пруссакам оставалось полагаться на резервы, т. е. Landwehr. Армия из гражданских была неожиданным образом создана в 1813 г. для борьбы с Наполеоном. Впоследствии, в мирное время, она пополнялась пу тем призыва мужчин на трехлетний срок. Офицеры резерва набирались в университетах из студентов, которые получали звание лейтенанта и служили 5 лет.
Даже в самых реакционных периодах мирного времени прусская армия сумела сохранить ряд характерных черт, зародившихся в 1813 – 1814 гг. Хотя после 1819 г. настроения в среде прусских офицеров вновь стали благоволить выходцам из знати, возросший профессиональный уровень (особенно штабных офицеров) и установившаяся опора на гражданский резерв остались унаследованными от эпохи реформ-когда ставшее действительностью сотрудничество короля и народа вновь, как в славные дни Фридриха Великого, вознесло Пруссию на уровень великих европейских держав( 64*) .
В других армиях Европы возврат к принципам Старого Режима был куда более основательным. Повсюду предпочтение отдавалось профессиональным войскам с длительным сроком службы личного состава. Франция, Австрия и Россия держали под ружьем армии в несколько сот тысяч человек на постоянной службе в гарнизонах. В этих армиях образование и обучение были не в почете; сравнительно низкой была оценка необходимости штабной работы. В артиллерии и инженерных войсках по-прежнему требовалась толика умственных способностей, однако повсеместное сокращение после заоблачных расходов военных лет было требованием действительности, и никто не мог предполагать, что промышленные технологии могут быть задействованы для выпуска радикально новых видов вооружения, способных изменить традиционные рутину и модели армейской и флотской жизни. Никто более не желал подобного революционного прорыва, и когда он состоялся в 1840-х, почти все профессиональные офицеры были не сторонниками, а противниками перемен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: