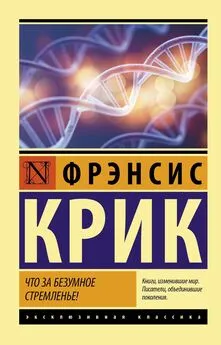Фрэнсис Крик - Что за безумное стремленье! [litres]
- Название:Что за безумное стремленье! [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2020
- Город:М.
- ISBN:978-5-17-115954-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фрэнсис Крик - Что за безумное стремленье! [litres] краткое содержание
Что за безумное стремленье! [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Основная задача зрительной системы – строить внутри нашей головы образы объектов внешнего мира. Ей приходится использовать для этого сложные сигналы, попадающие на сетчатку наших глаз. Хотя эти сигналы содержат много косвенной информации, мозгу нужно ее обработать, чтобы получить непосредственные образы того, что его интересует. Так, фоторецепторы наших глаз реагируют на длину волны падающего на них света, отраженного от какого-то объекта. Но мозг интересуется главным образом отражательной способностью (цветом) объекта и может извлечь эту информацию даже при различных условиях освещения этого объекта.
Зрительная система возникла в ходе эволюции, чтобы улавливать множество особенностей реальной среды, эволюционно важных для выживания, – например, распознавать пищу, хищников и потенциальных брачных партнеров. В особенности ее интересуют движущиеся объекты. Эволюция готова ухватиться за любые признаки, которые дадут полезную информацию. Во многих случаях мозгу приходится производить операции как можно быстрее. Нейроны сами по своей природе работают довольно медленно (по сравнению с проводниками в компьютере), поэтому мозг должен быть организован таким образом, чтобы производить вычисления максимально быстро. Как именно это происходит, мы пока еще не понимаем.
Несложно убедить любого человека, что, как бы он ни представлял себе работу собственного мозга, его мозг работает точно не так. Это недоразумение можно продемонстрировать на примере последствий травм человеческого мозга, или психологических опытов на здоровых людях, или уже накопленных данных о мозге обезьян. То, что представляется единым и простым процессом, на самом деле являет собой результат сложного взаимодействия между системами, подсистемами и подподсистемами. Например, одна система отвечает за то, как мы видим цвет, другая – за трехмерное восприятие (хотя от каждого глаза мы получаем информацию лишь в двух измерениях) и т. д. Одна из подсистем последнего зависит от различия между изображениями в каждом из двух глаз – это называется бинокулярным зрением. Другая работает с перспективой. Третья учитывает тот факт, что объекты на расстоянии образуют меньший угол, чем близкие к нам. Прочие работают с заслоном (когда один объект заслоняет часть другого объекта позади себя), различением контуров и теней и т. д. Каждая из этих подсистем для работы вполне может нуждаться в собственных подподсистемах.
При нормальных условиях все системы дают сходные данные, но, применив некоторые хитрости, например, сконструировав искусственную визуальную обстановку, мы можем столкнуть их и вызвать оптическую иллюзию. Если человек заглядывает одним глазом через дырочку в комнату, выстроенную с обманной перспективой, предмет у одной стены комнаты будет выглядеть меньше, чем тот же самый предмет у другой стены. Такая комната в натуральную величину – ее еще называют комнатой Эймса [60] Названа по имени ее изобретателя – американского офтальмолога Эдельберта Эймса (1880–1955).
– есть в интерактивном музее «Эксплораториум» в Сан-Франциско. Когда я туда заглядывал, по ней от стены к стене бегали дети. Это выглядело так, словно они вырастали, подбегая к одной стене, и уменьшались, отбегая назад к другой. Разумеется, я прекрасно знал, что росту детей не свойственно меняться подобным образом, но тем не менее иллюзия была стопроцентно убедительной.
Концепцию зрительной системы как «мешка с хитростями» предложил Рама Рамачандран, сформулировав ее в основном по итогам своих элегантных и изобретательных психологических опытов. Он называет свою точку зрения утилитарной теорией восприятия и пишет так:
Вряд ли будет натяжкой предположить, что зрительная система использует запутанный набор узкоспециализированных приемов и практических правил для решения собственных проблем. Если этот пессимистический взгляд на восприятие верен, то исследователям зрения стоит поставить задачу выявить эти правила, а не приписывать системе уровень высокоорганизованности, которым она попросту не обладает. Поиск всеобъемлющих принципов может оказаться упражнением на тщетность.
Этот подход, по крайней мере, согласуется с тем, что известно об организации коры мозга у обезьян, и с мыслью Франсуа Жакоба, что эволюция – кустарь. Конечно, может быть и так, что в основе всех разнообразных хитростей лежит лишь небольшой набор базовых алгоритмов обучения, которые, надстраиваясь поверх генетической болванки, создают все сложное многообразие механизмов.
Кроме того, я обнаружил, что, хотя многое известно о поведении нейронов в различных элементах зрительной системы (по крайней мере у обезьян), никто в действительности не имеет ясного понятия о том, как мы вообще что-то видим. Об этом прискорбном положении дел, как правило, совсем не рассказывают студентам на лекциях по этому предмету. Нейрофизиологи располагают некоторыми обрывочными сведениями о том, как мозг расчленяет изображение, как отдельные области коры нашего мозга обрабатывают информацию о движении, цвете, расположении в пространстве и т. д. Непонятно пока еще, однако, как мозг совмещает все эти данные и получает единую живую картину мира.
Я обнаружил, что существует и еще один аспект предмета, о котором не принято упоминать, – сознание. Более того, интерес к этой теме обычно воспринимается как признак начинающегося маразма. Это табу чрезвычайно изумило меня. Конечно, я знал, что до недавнего времени большинство опытов по изучению зрительной системы проводилось на животных, находящихся под наркозом, так что, строго говоря, они и видеть-то ничего не могли. В течение многих лет это не волновало экспериментаторов, поскольку они замечали, что нейроны мозга даже в столь стесненных обстоятельствах ведут себя достаточно любопытно. С недавних пор на бодрствующих животных стали проводить больше опытов. Хотя таких животных технически гораздо труднее изучать, есть и преимущества, ведь животных в конце рабочего дня возвращают в вольеры, а экспериментатор отправляется домой ужинать. Такое животное можно изучать месяцами перед тем, как его вскрыть. (Опыты на животных под наркозом бывают гораздо более обременительными, поскольку они обычно длятся много часов за один прием, после чего животное сразу вскрывают.) Занятно, но, похоже, никто еще не проводил эксперимента по сравнению одного и того же типа нейронов у одного и того же вида животных при бодрствовании и под наркозом.
Разговоры о сознании раздражали не только нейрофизиологов. То же можно было сказать о психофизиках и когнитивистах. Около года назад психолог Джордж Мандлер организовал курс семинаров на психологическом факультете Калифорнийского университета в Сан-Диего. Семинары продемонстрировали, что едва ли существует консенсус по поводу формулировки проблемы, не говоря уже о ее решении. Большинство докладчиков, похоже, не думали, что решение возможно в ближайшем будущем, и просто обходили эту тему. Только Давид Ципзер (еще один бывший молекулярный биолог, ныне работающий в этом университете) разделял мои взгляды, а именно, что сознание, по-видимому, связано с каким-то специальным нейронным механизмом, вероятно, распределенным по гиппокампу и ряду областей коры, и что экспериментальное выявление хотя бы общей природы этого механизма не является чем-то невозможным.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Фрэнсис Крик - Что за безумное стремленье! [litres]](/books/1068058/frensis-krik-chto-za-bezumnoe-stremlene-litres.webp)
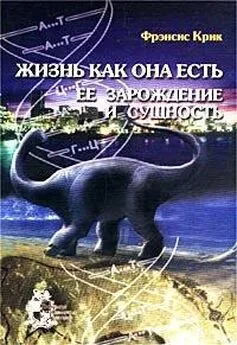
![Фрэнсис Дворник - Центральная и Восточная Европа в Средние века [История возникновения славянских государств] [litres]](/books/1060850/frensis-dvornik-centralnaya-i-vostochnaya-evropa-v-s.webp)
![Фрэнсис Бернетт - Как стать леди [litres]](/books/1062547/frensis-bernett-kak-stat-ledi-litres.webp)
![Фрэнсис Хардинг - Свет в глубине [litres]](/books/1064022/frensis-harding-svet-v-glubine-litres.webp)

![Ольга Куно - Безумный рейс [litres]](/books/1084401/olga-kuno-bezumnyj-rejs-litres.webp)
![Елена Арсеньева - Проклятие безумной царевны [litres]](/books/1089949/elena-arseneva-proklyatie-bezumnoj-carevny-litres.webp)
![Фрэнсис Фицджеральд - Великий Гэтсби. Главные романы эпохи джаза [сборник litres]](/books/1143544/frensis-ficdzherald-velikij-getsbi-glavnye-romany.webp)
![Бриджид Кеммерер - Клятва безумная и смертельная [litres]](/books/1146697/bridzhid-kemmerer-klyatva-bezumnaya-i-smertelnaya-li.webp)