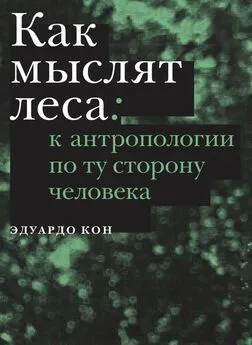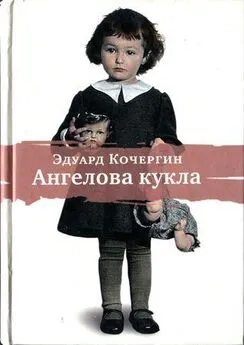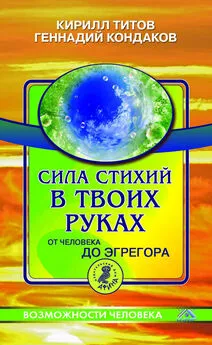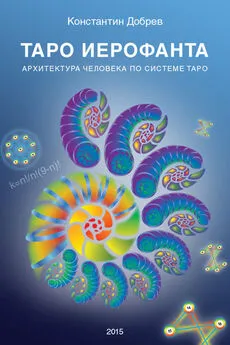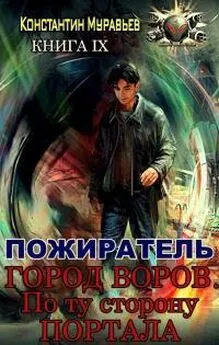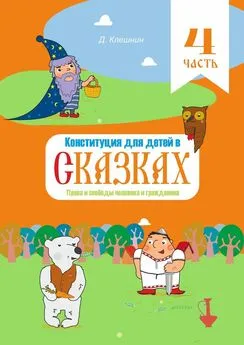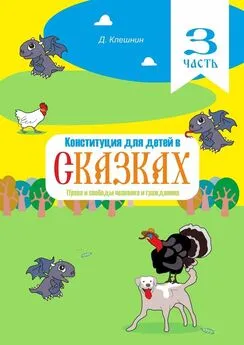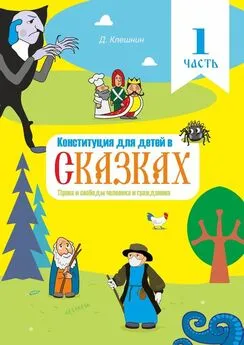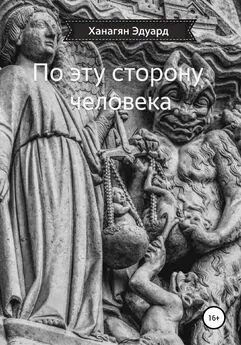Эдуардо Кон - Как мыслят леса. К антропологии по ту сторону человека
- Название:Как мыслят леса. К антропологии по ту сторону человека
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ад маргинем
- Год:2018
- Город:М.
- ISBN:978-5-91103-434-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдуардо Кон - Как мыслят леса. К антропологии по ту сторону человека краткое содержание
Как мыслят леса. К антропологии по ту сторону человека - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все процессы, включающие опосредование, проявляют третичность. Следовательно, третичность есть во всех знаковых процессах, поскольку они служат третьим элементом, который так или иначе является посредником между «чем-то» и «кем-то». Впрочем, важно подчеркнуть, что, по мнению Пирса, все знаки являются третичными элементами, но не все третичные элементы – знаки [36] Рассмотрение трудов Пирса с позиции антропологии представляет это в сжатом виде. Так, третичность считается исключительно человеческим символическим свойством (см., например, 2003: 414, 415, 420), а не свойством, присущим любому семиозису и, в сущности, любой существующей в мире закономерности.
. Всеобщность, склонность к следованию привычке не навязывается миру семиотическим разумом. Она существует в нем сама по себе. Существующая в мире третичность представляет собой необходимое условие для семиозиса, а не то, что семиозис «привносит» в мир.
По Пирсу, первичность, вторичность и третичность так или иначе проявляются во всем (CP 1.286, 6.323). Различные знаковые процессы усиливают определенные аспекты каждого из этих свойств, оставляя без внимания другие. И хотя все знаки от природы триадичны, в своей репрезентации чего-либо кому-либо они уделяют больше внимания или первичности, или вторичности, или третичности.
Будучи третичными элементами, иконические знаки связаны с первичностью, поскольку их опосредование зиждется на том, что они обладают теми же свойствами, что и их объекты, независимо от их отношения к чему-либо еще. Поэтому у образных «слов» на кечуа, например цупу , нет отрицания и флексий. В каком-то смысле они просто свойства своей «собственной качественности». Будучи третичными элементами, индексальные знаки связаны со вторичностью: они опосредуют, попав под влияние своих объектов. Обрушившаяся пальма напугала обезьяну. В отличие от этих двух третичных элементов, символические знаки образуют двойную триаду: они опосредуют, отсылая к чему-то общему – возникающей привычке. Они означают в силу своего отношения с конвенциональной и абстрактной системой символов, то есть системой привычек, которые их интерпретируют. Поэтому понимание слова каусагуинчу требует знакомства с кечуа в целом. Символическое – это привычка, сообщающая о привычке, которая совершенно исключительным образом порождает другие привычки.
Наши мысли напоминают мир, потому что мы являемся его частью [37] «[Категории первичности, вторичности и третичности] предполагают определенный ход мышления; возможность существования науки зависит от того факта, что человеческая мысль обязательно оказывается частью чего бы то ни было в нашей вселенной, а ее естественные модусы имеют тенденцию быть модусами действия вселенной» (Peirce, CP 1.351).
. Любая мысль – чрезвычайно запутанная привычка, находящаяся в непрерывной связи с породившей ее склонностью мира следовать привычке. Особый вид реализма Пирса – первый шаг к тому, чтобы помыслить антропологию, которая бы в описании мира осознавала пределы свойственных человеку путей познания и в то же время выходила за них. Это стремление начинается с переосмысления семиозиса.
Более широкое понимание реальности позволяет осмыслить состояние, из которого меня вывело появившееся в объективе бинокля изображение птицы, равно как и то состояние, в котором я после этого оказался. По проницательному замечанию Кэпс и Окс, самое неприятное в панике – отсутствие согласованности с другими людьми. Мы остаемся наедине со своими мыслями, которые все сильнее оказываются отрезанными от более широкого поля привычек, породившего их. Другими словами, всегда существует опасность, что несогласованная способность символической мысли создать привычку может вытянуть нас из привычек, в которых мы находимся.
Но живой разум таким образом не искоренить. Живые и развивающиеся мысли всегда сообщают что-то о мире, пусть даже это что-то относится к возможному будущему. Часть всеобщности мысли, то есть ее третичность, заключается в том, что ее местонахождение не ограничивается какой-либо определенной и устойчивой самостью. Скорее, она образует возникающую самость, которая распределяется во множестве тел.
Изолированный человек лишен целостности и, по существу, является возможным членом общества. В особенности опыт одного отдельно взятого человека ничего не значит. Если он видит то, чего не могут видеть другие, мы называем это галлюцинацией. Не «мой» опыт, а «наш» является предметом мышления; и это «мы» обладает бесконечными возможностями (CP 5.402).
Это «мы» представляет собой общность. Паника эту общность нарушает. Она приводит к краху триадического отношения, которое связывает мой разум, формирующий привычки, с другим разумом, формирующим привычки в отношении нашей способности делиться опытом привычек открываемого нами мира.
Солипсическое погружение все более частного разума в самого себя имеет ужасающие последствия, приводя ко внутреннему разрыву самости. В панике самость становится монадическим «первичным элементом», отделенным от остального мира; она становится «возможным членом общества», чьей единственной способностью является сомнение в существовании чего-либо, что Харауэй (2003) называет более «телесными» связями с миром. Вкратце, результатом является скептическое картезианское cogito: неизменное «Я (только) мыслю (символически), следовательно, я (сомневаюсь, что я) существую» вместо развивающегося, многообещающего эмерджентного «мы» со всеми его «бесконечными возможностями» [38] И все же мы должны принять во внимание идеи Декарта о «первичности» чувствования и самости. «Я мыслю, следовательно, я существую» теряет свой смысл (и чувствование), когда употребляется во множественном числе, втором или третьем лице; точно так же, как только вы, будучи Я, можете почувствовать цупу .
.
Этот триадический союз, результатом которого является эмерджентное «мы», достигается индексальным и иконическим образом. Возьмем, к примеру, комментарии Лусио после того, как он подстрелил шерстистую обезьяну, которую выманила с насеста на верхушке дерева поваленная Иларио пальма:
вон там, прямо там
что случилось?
она вон там,
свернулась клубком,
вся израненная [39] См. текст на кечуа: Kohn, 2002b: 150–51.
.
Иларио видит хуже, чем Лусио, и потому не сразу заметил обезьяну на дереве. Шепотом он спросил сына: «Где?» И когда обезьяна неожиданно начала двигаться, Лусио быстро ответил: «Смотри! Смотри! Смотри! Смотри!»
В этом случае императив «смотри!» (на кечуа – рикуй! ) действует как индекс, направляющий взгляд Иларио по пути перемещения обезьяны вдоль ветки. Этот индекс выстраивает отношения между Иларио, Лусио и обезьяной на дереве. Кроме того, ритмическое повторение Лусио императива иконическим образом передает темп движения обезьяны. Посредством этого образа, который Иларио также может себе представить, Лусио «напрямую передает» то, как он увидел раненую обезьяну, передвигающуюся в кроне дерева, независимо от того, смог ли ее увидеть его отец.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: