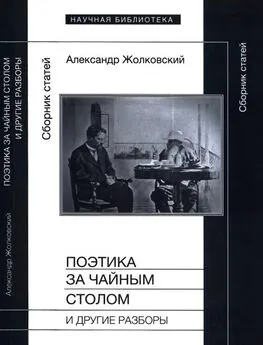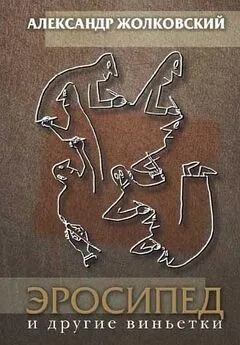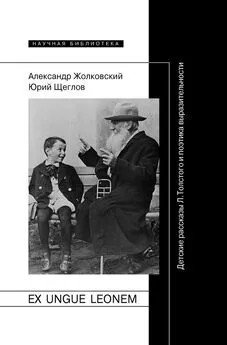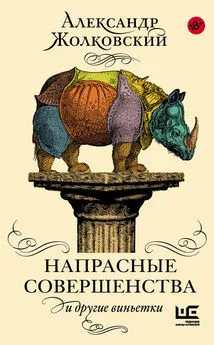Александр Жолковский - Поэтика за чайным столом и другие разборы
- Название:Поэтика за чайным столом и другие разборы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0189-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Жолковский - Поэтика за чайным столом и другие разборы краткое содержание
Поэтика за чайным столом и другие разборы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку <���…> с ее елизаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова <���…> и, несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло [382].
В чрезмерной переоценке героем его любви к героине кроется его трагическая вина, еще одним аспектом которой является ‘неземная идеальность’ его чувств:
Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро.
Его страсть совершенно ‘бестелесна’:
<���…> я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела. — Ну, как же <���…> я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию, не только свое, но и ее тело — сказал один из гостей. — <���…> Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. <���…> вы раздеваете женщин <���…> для меня же <���…> на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу [383].
«Бронзовые одежды» символизируют не только платонизм героя, но и полное и добровольное приятие им светских условностей, служа (возможно, вопреки сознательным установкам Толстого) метафорическим обобщением всех тех лайковых и замшевых перчаток (героя, Вареньки, полковника), атласных башмачков (Вареньки) и трогательно дешевых опойковых сапог (полковника) [384], которым в «После бала» уделено столько внимания. Согласно Толстому, назначение этих предметов одежды (читай — культуры) в том и состоит, чтобы скрывать от Человека грубую, голую, свободную от условностей Истину.
Занесясь в своей ‘культурной’ любви слишком высоко, герой справедливо «боялся <���…> чтобы что-нибудь не испортило [его] счастья». Механизм чрезмерного нарастания любви [385]не дает ему заснуть, гонит на улицу и приводит к дому Вареньки и ее отца — на роковой плац. Сцена экзекуции, заставляющая героя разлюбить героиню и духовно переродиться (оставив мысли о военной и иной официальной карьере) [386], образует почти точный негатив бального эпизода [387].
Прогон сквозь строй, как и бал, представляет собой массовое, ‘культурное, ‘законническое’ мероприятие (наказание за побег) под соответствующую музыку. Контрапункт двух музыкальных аккомпанементов подчеркнут в рассказе: подходя к плацу, герой
услыхал <���…> звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка.
Сходство эпизодов усилено аналогичной позицией наблюдателя (и его рассказом от первого лица) и присутствием полковника, с его знакомой внешностью и «рукой в замшевой перчатке», которой он теперь бьет по лицу солдата за неточное исполнение ‘закона’ экзекуции (тот «мажет», недостаточно сильно опуская свою палку на спину наказываемого). Еще одна композиционная рифма состоит в сосредоточении внимания (рассказчика и всех собравшихся) на полковнике и его ‘партнере по танцу’: на балу это Варенька, на плацу — истязаемый татарин, которого полковник тоже как бы подводит к герою в ходе общего danse macabre, исполняемого полковником, татарином и конвоирами.
Но сходства оборачиваются контрастами. Музыка оказывается «нехорошей»; отклонения от буквы ‘закона’ сурово наказываются (как в случае беглого татарина, так и мажущего экзекутора); выправка и перчатки полковника предстают как символы его высокомерной жестокости; его румяное лицо больше не улыбается, а увидев героя, он делает вид, что не знает его.
Метаморфозу претерпевает и мотив ‘(бес)телесности’. Если тело прекрасной Вареньки оставалось скрытым и даже намеренно игнорировалось героем, то жуткое тело истязаемого с самого начала предстает (полу)обнаженным: «что-то страшное, приближающееся ко мне <���…> оголенный по пояс человек». Это дергающееся тело приковывает внимание рассказчика, который одновременно узнает в офицере отца Вареньки. Узнавание наступает вопреки характерному для героя (нацеленного на все бестелесное и прикрытое одеждами) ‘нежеланию видеть’, чем мотивируется типично толстовский эффект остранения:
<���…> я <���…> увидал <���…> спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека.
В довершение происходящего в герое переворота ему дается «почувствовать» не только тело другого человека, но и свое собственное: в отличие от блаженного состояния по возвращении с бала, теперь
всю дорогу [домой] <���…> на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты, тоска <���…> казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом…
Так столкновение лицом к лицу с ‘голым фактом’ освященной общественными институтами жестокости полковника, символом которой становится истязаемое обнаженное тело татарина, приводит к крушению бестелесной, условной, светской любви, обнаружившей свою неспособность обнять действительно «весь мир», включая его теневые стороны. Выводы рассказчика далеки от морального максимализма («Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было — дурное дело? Ничуть»). Он ограничивается личным выбором (не жениться и не поступать на военную службу), допуская, что полковник знает что-то такое, что оправдывает жестокость [388].
Духовное прозрение героя отмечено характерными толстовскими чертами, существенно связанными с проблематикой ‘тела’. Бал происходит «в последний день масленицы»; соответственно, порка совершается в первый день Великого поста. Приуроченность событий к религиозному, языческо-христианскому календарю сама по себе уже свидетельствует о важности культовых аспектов рассказа [389]. Для Толстого масленичный бал является манифестацией не карнавальной стихии (в смысле Бахтина), а, напротив, фальшивого веселья и, в случае ‘бестелесного’ героя, — игнорирования плоти [390]. И, наоборот, откровение об истине, явленной во плоти наказываемого солдата, приходится на время поста, то есть умерщвления плоти, а в широком смысле — время страстей Господних, так что телесное начало носит опять-таки не карнавальный, а аскетически христианский характер.
Этим христианские мотивы эпизода не ограничиваются. Истязаемый все время повторял какие-то слова, которые герой разобрал, лишь когда процессия подошла ближе: «Братцы, помилосердуйте» [391]. В этот момент спутник героя, кузнец [392], проговорил: «О господи». И именно за ‘милосердное битье’ набросился полковник с кулаками на мазавшего солдата [393]. Тем самым в сцене, варьирующей Голгофу, полковник демонстрирует свои императорские — кесаревы и николаевские — установки, противопоставленные божескому телу жертвы и состраданию, проявляемому героем, кузнецом и, возможно, слабосильным солдатом. А поскольку татарин в этой конфигурации выступает своего рода заместителем Вареньки, то сцена в целом символизирует вытеснение светской любви любовью к страдающему телу Христову [394].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: