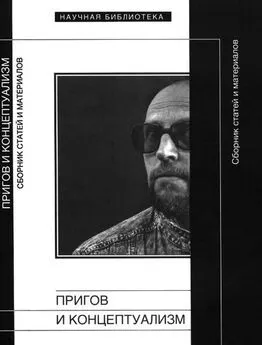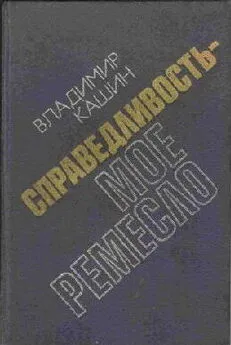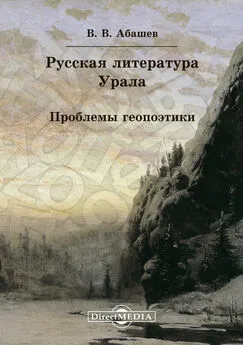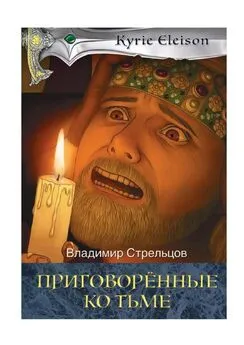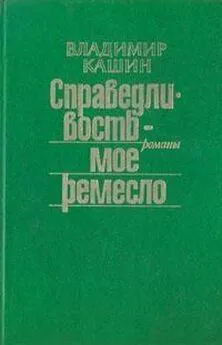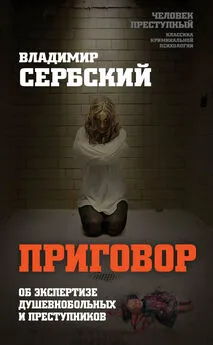Владимир Абашев - Пригов и концептуализм
- Название:Пригов и концептуализм
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0217-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Абашев - Пригов и концептуализм краткое содержание
Пригов и концептуализм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Что же познаю я средствами поэзии? Конечно же, не многообразие материального мира, не людей, не их психику, не социальные законы, не… ничего. Тут я понял, что, скорее, не познаю что-то уже существующее, а построяю. Построяю мир поэзии и параллельно его же и познаю» (СПКРВ, с. 26).
В 1977 г. Пригов создал цикл из четырех стихотворений «Имя Бога», который он включил в «сборник» «Опасный опыт». В этом «сборнике» большую часть места занимало сложное теоретическое «Предуведомление». Его пафос связан с мистическим богословием Псевдо-Дионисия Ареопагита, который имел для Пригова чрезвычайно большое значение и которого он систематически упоминал в разных контекстах. Речь идет о трактате Дионисия «О Божественных именах»:
«Поскольку истинного Имени Бога в человеческом языке быть не может (что с избыточностью показал Дионисий Ареопагит <���…>), — писал Пригов, — не может быть в сфере языка истинного развертывания Имени. А стихи (и, соответственно, поэт), подвигнувшиеся на подобное, невольно претендуют на это. Они скрыто (если не лукаво) несут в себе отрицание какого-либо другого возможного развертывания Имени. И мы должны признать, что в плане поэтического языка (именно поэтического, в других я не судья) единственно истинное в них — это сама динамика развертывания, реализующаяся система порождения, которая может реально различно воплощаться» [5] Дмитрий Александрович Пригов. Собрание стихов, т. 3. Wiener Slawistischer Almanach. 1999. Sond. 48. S. 155–156. Далее — ССЗ.
.
Эта динамика, подчеркивает Пригов, отличает стихи от графических построений: «В стихах же динамика существует как воплощенная жизнь, а графический момент является хоть и закономерным, но побочным моментом закономерностей иного порядка» (ССЗ, с. 156). Графическая и письменная культура в большей степени выражают отчуждение сознания, чем стихотворная речь. Когда-то Моисей Мендельсон, оказавший сильное влияние на Канта и Гегеля, писал о том, что система наших знаков складывается в результате необходимости сводить «неизмеримое к измеримому». Он замечал, что в языках, не знающих письменности, неопределенность звуков устной речи гораздо выше, чем в языках с письменностью, так как письменные знаки дисциплинируют и упрощают речь. Системы графических обозначений (пиктография, иероглифика) вносили измеримость в неизмеримость мира, подменяя реальность внятностью графем, которые постепенно подменили собой реалии мира. «Мы видели, как такая невинная вещь, как простой способ письма, может очень скоро выродиться в руках человека и превратиться в фетишизм. <���…> Нужда в письменных знаках была первой причиной фетишизма» [6] Mendelssohn M. Jerusalem. Hanover: Brandeis University Press, 1983. P. 113.
.
Что означает невозможность истинных имен? Прежде всего — невозможность референции, возникающая в выродившихся языках. Ни одно имя не обладает референциальностью, связывающей его с вне-языковой реальностью. Мы уже видели, что именно такую связь с референцией Пригов считал утраченной в советской культуре. В ином месте, опять же со ссылкой на Дионисия, Пригов говорил:
«<���…> я прежде всего занимаюсь вычленением некоего Логоса данного типа письма и творения. Меня не очень интересует его взаимосвязь с конкретной жизнью. Вот Дионисий Ареопагит, его можно читать как Дионисия Ареопагита, но он меня всегда интересовал в не меньшей мере и как модификация лозунгов, которые висят на улице, как такие вот ангелы нашей мистической реальности» (ПГ, с. 20–21).
Лозунги в таком понимании не имеют никакого референтного значения, никак не связаны с жизненной реальностью, но лишь с определенными процедурами речевой практики, с порождающими операциями разворачивающегося Логоса. Вопрос, однако, заключается в том, что связь лозунгов с Логосом далеко не самоочевидна. В лозунгах письменные фетиши заняли место живого понятия. Идея, понятие в той мере, в какой они принадлежат живому Логосу, как считал Гегель, — это и есть жизнь:
«Мертвая, неорганическая природа несоразмерна идее, и лишь живая, органическая природа является ее действительностью. Ибо жизни присуща, во-первых,реальность различий понятия как реальных, во-вторых,в ней имеется также и отрицание этих различий <���…>, в-третьих,в ней налицо нечто одушевляющее как положительное явление понятия в его телесном воплощении, как бесконечная форма, которая в состоянии отстаивать себя как форму в своем содержании» [7] Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4 т. М.: Искусство, 1968. Т. 1. С. 127.
.
Понятие обладает внутренней диалектикой, которая делает его живым, в том случае, когда оно не отчуждается в абстракции и схоластической универсальности. В «Феноменологии духа» Гегель будет говорить об эквивалентности понятия времени.
Остин как-то заметил, что вопрос о значении слов глуп сам по себе, так как предполагает, что слова имеют какой-то выделимый и абстрагируемый смысл. Он указывал на то, что нелепо само предположение, что есть такая «одиночная вещь (single thing), называемая смыслом» [8] Austin J. L. The Meaning of a Word // Austin J. L. Philosophical Papers. Oxford: Oxford University Press, 1970. P. 60.
. Не существует ни понятий, ни класса определенных идей, к которым может отсылать слово как к области своего смысла. Источником такого рода заблуждений Остин считал смешение слова и имени:
«Прежде всего существует занятное верование, что все слова — имена,даже имена собственные,а следовательно, замещают что-то или указывают на что-то так же, как собственные имена. Но это представление о том, что общие имена „имеют денотацию“ точно так же, как собственные имена, так же нелепо, как и убеждение в том, что собственные имена „имеют коннотацию“ точно так же, как общие имена…» [9] Austin J. L. The Meaning of a Word. P. 61.
.
Имена Бога у Дионисия тоже не обладают референцией или денотацией, так как относятся к бесконечной сущности, которая выше любой референциальной практики. Но имена эти не бессмысленны. Они связаны с Богом как с Логосом, который един, но к которому причастно все многообразие сотворенного. Так, Дионисий различал «объединяющие» имена Бога, которые относятся «ко всецелой Божественности» (2: 3), и имена, выражающие раздельность в Боге, например, «Отец», «Сын» и «Дух» — «они никак не могут быть обращены или использованы как полностью общие» (2: 3) [10] Дионисий Ареопагит. О Божественных именах // Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. СПб.: Издательство Олега Абышко, 2006. С. 145.
. Эти аспекты Бога «неслиянно растворены друг в друге». Слияние в Едином и разложение на множественность идут параллельно и приводят в некоему состоянию Логоса, который погружается в молчание, выражающее созерцание невыразимой тайны Бога. Известный теолог Ганс Урс фон Балтазар, для которого Дионисий был важным источником, писал в книге о христианском созерцании, что сам Христос движется к всеединому и что движение это отражается в нарастающем его молчании, отказе от слова, покуда в конце своей земной жизни он не становится «бессловесным, но все еще звучащим Словом» [11] Von Balthasar H. U. Christian Meditation. San Francisco: Ignatus, 1989. P. 41.
. Слово начинается в молчании и кончается в молчании.
Интервал:
Закладка: