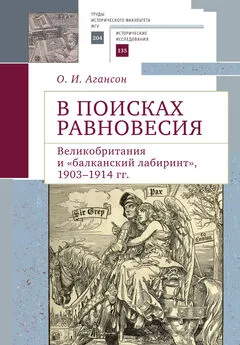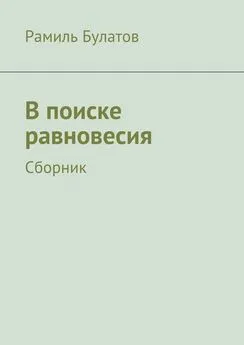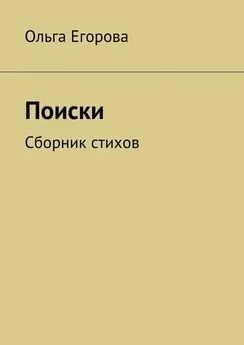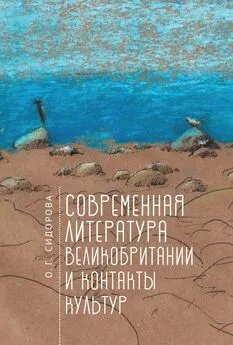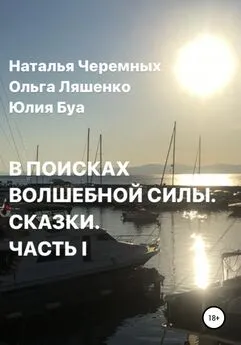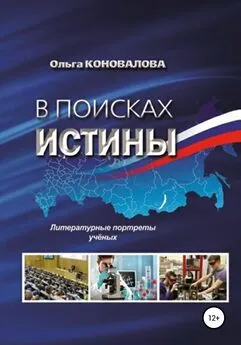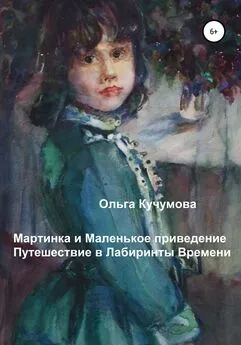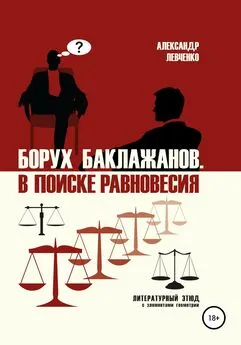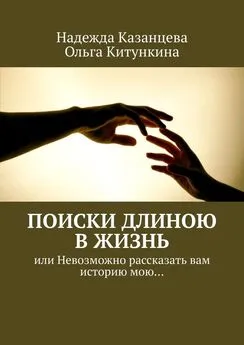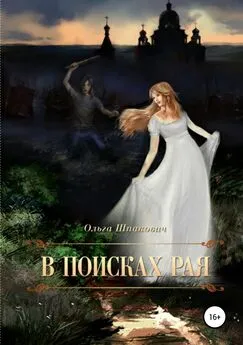Ольга Агансон - В поисках равновесия. Великобритания и «балканский лабиринт», 1903–1914 гг.
- Название:В поисках равновесия. Великобритания и «балканский лабиринт», 1903–1914 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00165-492-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Агансон - В поисках равновесия. Великобритания и «балканский лабиринт», 1903–1914 гг. краткое содержание
В поисках равновесия. Великобритания и «балканский лабиринт», 1903–1914 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наличие нескольких центров силы и, как правило, неравномерное распределение мощи между ними обусловливали подвижность многополюсных конструкций. Степень этой волатильности и, соответственно, ее деструктивный потенциал зависели от склонности ключевых игроков к использованию силовых методов для реализации своих программно-целевых установок. На фоне Венской многополярности уникальной выглядела позиция Великобритании, которая, если следовать парадигме структурного реализма, мир-системного анализа и теории «длинных волн», на протяжении XIX века частично исполняла функции лидера системы, внося вклад в организацию мирохозяйственных связей, но, как мы знаем, в начале XX века макроэкономическая ситуация изменилась [14] Modelski G. Long Cycles in World Politics. London, 1987. P. 30–31.
.
Для Великобритании, как уже отмечалось, были благоприятными такая конфигурация многополярной системы и такое соотношение мощи между ее центрами, которые позволяли бы ей достигать внешнеполитических целей, прежде всего обеспечения безопасности империи и морских коммуникаций без чрезмерных затрат экономических и военно-политических ресурсов. В свете этого «лидерство» скорее воспринималось Лондоном как способность влиять на международные процессы в нужном для себя ключе без принятия излишних обязательств и вовлеченности в конфликты. В этом смысле для Англии «лидерство» было в чем-то созвучно равновесию многополярной системы. Перегруппировка сил на международной арене неизбежно нарушала это равновесие и поднимала вопрос об инструментах его восстановления: традиционной политике баланса сил, вкраплениях «концертного» регулирования, попытках сближения с другими великими державами с перспективой коалиционного взаимодействия.
Вообще понятие баланса сил было одной из самых сложных и многослойных категорий международно-дипломатической практики эпохи Венского порядка, породившей жаркие споры среди историков и теоретиков-международников. С некоторыми оговорками можно выделить три подхода к его определению.
Первый подход, условно обозначим его «историко-эмпирический», в принципе не предполагает каких-то жестких, застывших формулировок, ибо баланс сил выступает в качестве активного действующего лица, как, например, это происходит на страницах классического труда британского историка А.Дж. П. Тэйлора «Борьба за господство в Европе» [15] Taylor A.J.P. The Struggle for Mastery in Europe. Oxford, 1954 (русский перевод: Тэйлор А.Дж. П. Борьба за господство в Европе. М., 1958).
. У Тэйлора, по словам П. Шрёдера, баланс сил наделен чертами субъекта: это что-то реальное, активное, осязаемое и производящее значимые результаты [16] Schroeder P.W. A.J.P. Taylor’s International System // The International History Review. 2001. Vol. 23. № 1 (March). P. 6.
. Базовым посылом Тэйлора является тезис о том, что все великие державы осознавали свою неспособность поглотить другие государства, а их взаимное соперничество гарантировало независимость малых стран, которые сами были не в состоянии ее обеспечить. Таким образом, в представлениях британского специалиста система международных отношений была подобна капитализму свободной конкуренции, а баланс сил – «невидимой руке» рынка А. Смита. Безусловно, это весьма смелое утверждение, но оно подводит нас к другому важному выводу: баланс сил запускал процесс саморегуляции многополярной системы международных отношений, что свидетельствовало о ее адаптивном потенциале, снижавшем риск обрушения всего системного комплекса и начала крупного военного конфликта.
Второй подход отчасти созвучен первому, т. к. тоже покоится на фундаменте «политического реализма». Британский исследователь Р. Литтл именует его «позицией соперничества» [17] Little R. The Balance of Power in International Relations: Metaphors, Myths, and Models. New York, 2007. P. 11.
. В соответствии с ним, баланс сил порожден чувством уязвимости, которое государства испытывают в анархической международной среде. Это негативное самоощущение и обусловливает их поведение на мировой арене: поиск путей создания противовеса своему реальному или потенциальному противнику (формирование союзов, наращивание вооружений и т. п.) [18] См., например: Herz J. Political Realism and Political Idealism: A Study in Theories and Realities. Chicago, IL, 1959; Booth K., Wheeler N. The Security Dilemma: Fear, Cooperation and Trust in World Politics. Houndmills, 2007.
. Эта (нео)реалистская парадигма, казалось бы, объясняет внешнеполитические интенции как великих держав, так и малых балканских стран накануне Первой мировой войны и, таким образом, выявляет истоки континентального конфликта на уровне перераспределения мощи на глобальном и региональном уровне международной системы.
И, наконец, третий подход – это «ассоциативное видение баланса сил», уходящее корнями в «английскую школу» изучения международных отношений. Представители этого направления полагают, что на функционирование международного сообщества, помимо материальных факторов, оказывают влияние и нематериальные факторы, среди которых – признание великими державами своей коллективной ответственности в вопросах обеспечения международного порядка, а это, в свою очередь, накладывает на них обязательства по установлению и поддержанию баланса сил [19] Little R. Op. cit. Р. 12.
.
П. Шрёдер, близкий по своим научным воззрениям к «английской школе», обращаясь к мирополитическим реалиям XIX – начала XX в., указывал на то, что в основе баланса сил лежали институты, нормы и международно-правовые практики. Он выделял три условия, при которых баланс сил успешно работал на разных этапах развития Венской системы: гегемония (размежевание сфер влияния великих держав на региональном уровне), «европейский концерт» (общее понимание великими державами принципов международного взаимодействия) и союзы великих держав как инструмент сдерживания и управления [20] Schroeder P.W. Op. cit. P. 18–22.
. Примечательно, что в своих более ранних работах Шрёдер противопоставлял понятия баланса сил и европейского равновесия [21] Schroeder P. W. Systems, Stability, and Statecraft. Essays on the International History of Modern Europe / Ed. by D. Wetzel, R. Jervis, and J. Snyder. New York, 2004. P. 223–227. (Цитируемая статья «The Nineteenth Century System: Balance of Power or Political Equilibrium?» была впервые опубликована П. Шрёдером в журнале «Review of International Studies» в 1989 г.)
. Исследовав дипломатические документы той эпохи, американский историк пришел к выводу, что руководители европейской дипломатии мыслили, прежде всего, категориями политического равновесия, в понимании которого отразились все грани международной жизни: равное распределение мощи между различными центрами сил, стабильность и мир, борьба за власть и влияние в соответствии с государственными интересами, верховенство закона и гарантия прав. Более того, по мнению Шрёдера, перерождение политического равновесия в баланс сил вело к расшатыванию международной системы и возникновению большой войны. Ведь демонстрируемая великими державами озабоченность проблемой достижения военно-политического превосходства как способа удержания выгодного для себя баланса сил начинала превалировать над институциональными тенденциями к компромиссам и сотрудничеству.
Интервал:
Закладка: