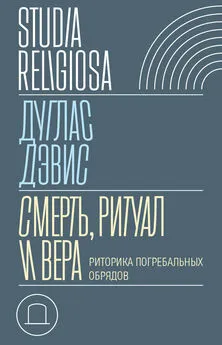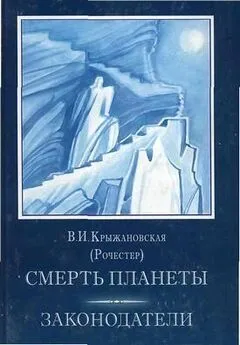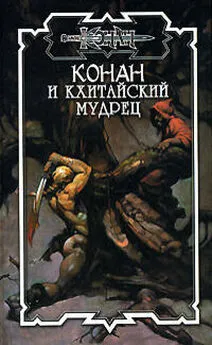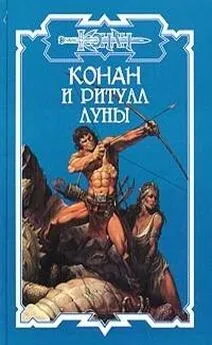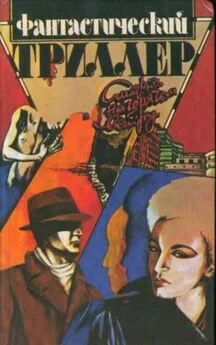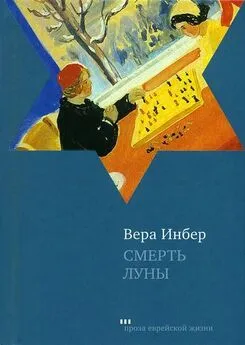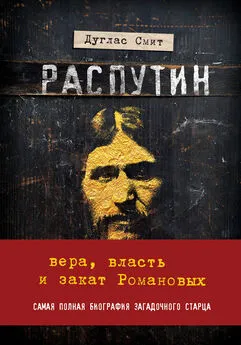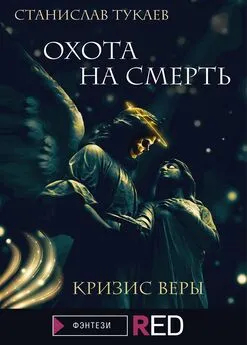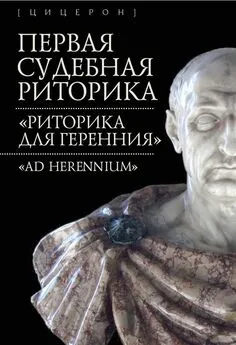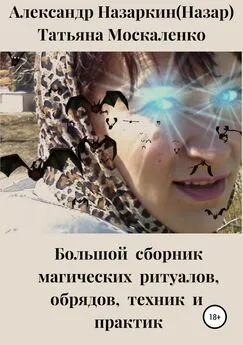Дуглас Дэвис - Смерть, ритуал и вера. Риторика погребальных обрядов
- Название:Смерть, ритуал и вера. Риторика погребальных обрядов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- Город:Москва
- ISBN:9785444816981
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дуглас Дэвис - Смерть, ритуал и вера. Риторика погребальных обрядов краткое содержание
Дуглас Дэвис – профессор религиоведения и директор Центра исследований смерти и жизни Даремского университета, Великобритания.
Смерть, ритуал и вера. Риторика погребальных обрядов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Я отвергаю аргументы этого типа, сосредоточенные на том, что антропологи называют бинарной оппозицией культуры и природы, потому что они основываются на парной классификации, что характерно не для всех обществ 32 32 Needham R. Reconnaissances. Toronto: Toronto UP, 1980. P. 41ff.
. Действительно, в некоторых западных обществах даже давно существующее бинарное разделение на мужчин и женщин ставится под сомнение из‐за представлений о трансгендерных и гендерно нейтральных идентичностях. Я предпочитаю рассматривать обряды смерти как неизбежное следствие человеческого самосознания, при котором смерть плохо попадает в категории «природа» или «животное» в противоположность «культуре» или «человеку». Мы увидим некоторые специфические причины этого в главе 12, посвященной смерти домашних животных. Смерть проблематична именно потому, что является неотъемлемой частью человеческого существования, и идея «слов против смерти» отражает это самосознание. С осознанием странности человеческой ситуации можно столкнуться самыми разными способами, от утверждения веры в бессмертную душу до подчеркивания преемственности идентичности через наследников и преемников 33 33 Здесь Дэвис заявляет, что у смерти имеется множество противоречивых концептуализаций, которые, в свою очередь, приводят к таким же широким и разносторонним концептуализациям бессмертия. Смерть не может быть просто бинарной оппозицией к жизни. Проблематичность концептуализации связана с тем, что категории «человек»/«человеческое» тоже достаточно подвижны. — Примеч. науч. ред.
.
Это важный момент: я не хочу утверждать, что страх смерти неизбежно подтолкнул человечество к созданию веры в бессмертную душу. Хотя можно философски утверждать, что самосознание не в состоянии поддержать идею своего собственного прекращения, люди думают о собственном отсутствии в обществе, размышляя о смерти и удалении других. Вот почему Жан-Поль Сартр, как я считаю, прав, говоря, что смерти «нет никакого места в моей субъективности». «Смерть, – говорит он, – ни в коей мере не является онтологической структурой моего бытия… как раз другой смертен в своем бытии» 34 34 Сартр Ж. - П . Бытие и ничто. М.: Республика, 2000. С. 551.
.
Восприятие себя всегда тесно связано с идентичностью или, если быть точнее, мы можем рассматривать идентичность как самоосознание себя, выраженное публично. Некоторые религиозные переживания, в частности обращение, мистицизм и одержимость, помогают вызвать чувство идентичности, в то время как некоторые ритуалы активно передают идентичность – например, крещение или хадж. Некоторые социологи считают, что чувство личной идентичности может стать настолько важным для людей, что те будут придавать большое значение источнику своей идентичности, считая его в некотором смысле божественным 35 35 Mol H. Identity and the Sacred. Oxford: Blackwells, 1976; Davies D. J., Powell A. J. Sacred Selves, Sacred Settings, Reflecting Hans Mol. Farnham, Surrey: Ashgate, 2015.
. В момент смерти идентичность меняется не только из‐за потери источников идентичности, но и из‐за новых обязанностей, которые берут на себя живые.
Когда горе выражает человеческие эмоции после разрыва отношений в результате смерти, оно также является формой саморефлексии, подпитываемой глубиной самой человеческой жизни. Как мы видели, горе из нейтральной идеи становится мощной ценностью, затрагивающей наше физическое переживание самих себя, наших мертвых и тех, с кем мы живем и работаем. Как поясняется в главе 3, чем сильнее живые привязаны к умершему, тем сильнее чувство утраты от смерти 36 36 Интересно, что в книге Пирса Витебского «Living without the Dead: Loss and Redemption in a Jungle Cosmos», которую Дэвис упоминает ранее, рассматривается обратная ситуация – когда мертвые настолько привязаны к живым и сильно переживают свою смерть, что всячески горюют/тоскуют и от этого насылают различные несчастья на живых. — Примеч. науч. ред.
. Даже смерть национального лидера или какой-либо звезды сцены, экрана или спорта может повлиять на взгляды человека на жизнь, поскольку смерть знаменитости усложняет наше понимание культуры, пронизанной медиа. Эта книга повествует, как люди из разных стран, времен и мест реагировали на смерть, горе и изменения в идентичности после утраты, будь то превращение жен во вдов, детей в сирот или умерших в предков.
Такие преобразования, независимо от того, осуществляются ли они через обряды основных религий, светских структур или в небольших локальных группах, происходят, когда живые манипулируют человеческими останками, чтобы создать новые статусы для себя и для мертвых. Для описания этих процессов применялись различные теоретические установки. Например, Кампсти разделил то, что он называет «моделированием выживания после смерти», на три варианта: «религия природы», в которой мертвые становятся предками, «религия ухода», где они реинкарнируют, и «религия принятия светского мира», где они отправляются в какую-то форму рая (heaven) 37 37 Cumpsty J. S. Religion As Belonging: A General Theory of Religion. New York: UP of America, 1991. P. 207.
. В большей степени теоретически плодотворным является превосходное исследование Чидестера, в котором исследованы «четыре характерных способа символизации трансцендентности смерти»: родовая, эмпирическая, культурная и мифическая модели 38 38 Chidester D. Patterns of Transcendence. Belmont, CA: Wadsworth, 1990. P. 14ff.
. Его рассуждение вместе с работой Джона Боукера 39 39 Bowker J. The Meanings of Death. Cambridge, UK: Cambridge UP, 1991.
, представляющие собой наиболее значимые размышления об обрядах смерти в современной литературе, рассматриваются в конце этой главы.
Один из самых интересных фактов о смерти заключается в том, что человеческое отношение к ней часто кажется противоречащим очевидной реальности: несмотря на факт, что активный самомотивированный человек превратился в пассивный труп, подлежащий разложению, человеческие культуры часто утверждают, что какая-то часть индивида сохраняется после смерти. Запах разложения может даже символизировать процесс перехода 40 40 The Variety of Sensory Experience / Howes D., ed. Toronto: University of Toronto Press, 1991. P. 135ff.
. Это противоречие часто объясняется проведением различия между физическим телом и каким-либо другим динамическим элементом, который можно назвать душой, жизненной силой, социальным статусом или каким-либо другим жизненным явлением 41 41 Это центральная идея для всей антропологии смерти: с последним вздохом не наступает не только смерть социальная, но и даже физическая смерть осуществляется «не до конца» – тело как бы продолжает жить, пока не разложится окончательно (см.: Герц Р. Коллективные представления о смерти). Дэвис почему-то здесь эту мысль не дожимает, хотя она напрямую связана с его попыткой деконструировать бинарную связь «мертвое – живое». — Примеч. науч. ред.
. Хотя такие убеждения легко рассматривать как исполнение желаний скорбящих родственников, более тщательный социологический анализ показывает, что посмертная идентичность умершего также связана с продолжающейся социальной жизнью сообщества. Обряды смерти в равной степени зависят от проблем идентичности и социальной преемственности, а также от того самого практического факта, что человеческие тела разлагаются и оскорбляют чувства живых, нуждающихся в комфорте 42 42 Этот пассаж у Дэвиса выглядит достаточно странно: все же стоит признать, что оппозиция «чистота – грязь» не просто не универсальна, как на этом настаивает здесь Дэвис, а связана исключительно с европейской модерностью (как, например, идеи экологии/мусора). См.: «Чистота и опасность» М. Дуглас, а также целый ряд работ историков Средневековья, показывающих, что мертвые и разлагающиеся тела зачастую не доставляли никаких проблем окружающим. Чистота, гигиена и связанный с ней страх мертвого тела связаны с развивающимся биологическим и медицинским знанием, достигающим расцвета в XIX–XX веках. — Примеч. науч. ред.
.
Интервал:
Закладка: