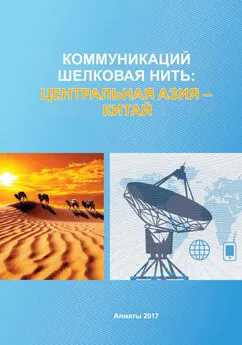Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи. Путешествие в Центральную Азию и Китай
- Название:От Кяхты до Кульджи. Путешествие в Центральную Азию и Китай
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Академии наук СССР
- Год:1940
- Город:Москва, Ленинград
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Обручев - От Кяхты до Кульджи. Путешествие в Центральную Азию и Китай краткое содержание
В книге академик В. А. Обручев описывает впечатления своего путешествия в Монголию и Китай, которое было организовано Русским Географическим Обществом и выполнено в 1892–1894 гг. Во главе этой экспедиции был этнограф Г. Н. Потанин. Автору были поручены геологические исследования на западе Центральной Азии, в особенности в горных системах Нань-Шаня и Вост. Тянь-Шаня, а также восточной окраины Тибета. Таким образом, впечатления и наблюдения, собранные во время путешествия, были очень разнообразны, и изложенное в книге поможет знакомству с природой и населением значительной части обширной Азии.
От Кяхты до Кульджи. Путешествие в Центральную Азию и Китай - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С последнего ночлега второй проводник уехал назад, и мы остались опять втроем: старый лама, я и Цоктоев. Последний начал внушать мне тревогу: он жаловался на сильную боль в пояснице, легкий жар, запоры. Я опасался, не заразился ли он оспой от Абаши. А нам предстоял двухдневный безводный переход через пустыню.
Обходя утром окрестности, я наткнулся на волка, доедавшего под кустом загнанного им дзерена. С запада, очевидно, с Гашиуннора, стая лебедей пролетела на юговосток, вероятно, на последний рукав Кунделенгол. За последним, по словам торгоутов, среди песков расположены остатки большого города, когдато получавшего воду из Эцзингола, который давно уже отошел от него. Так как я археологией не занимался, а развалин городов и сел за время путешествия встречал не мало, то не придал значения этим сведениям. Позже путешественник Козлов разыскал эти развалины и добыл в них очень ценные для истории коллекции изваяний, фресок, рукописей, монет, тканей и пр. Оказалось, что это были развалины города Харахото, существовавшего еще в XIII веке, посещенного и описанного итальянским путешественником Марко Поло под именем города Эцзин.
Развалины находятся в 20 верстах от рукава Эцзингола в безводной местности. Поэтому, даже если бы я узнал, что они хранят исключительные научные ценности, снаряжение и состав моего каравана (три человека, включая меня, старого ламу и больного Цоктоева) не позволили бы заняться раскопками, тем более, что, не будучи специалистом, я мог бы коечто испортить и, кроме того, обнаружив случайно монеты или изделия из драгоценных металлов, дать повод для разграбления развалин самими монголами.
Безводный переход через пустыню мы выполнили в два дня; для ночлега была взята в бочонках вода и для лошадей — тростник: верблюды должны были довольствоваться скудным подножным кормом. Дорога пошла прямо на север; сначала еще попадались рощицы саксаула, кусты и мелкая трава, преимущественно по плоским логам и котловинам, делавшим рельеф не совсем ровным. Местность сначала немного понижалась, а затем начался очень пологий подъем на бесконечно длинный пьедестал гряды холмов Сухомту. На этом переходе рельеф представлял очень мало врезанные сухие песчаные русла, в которых еще попадались кустики саксаула, хвойника, караганы, и промежуточные между ними площади, почти лишенные растительности, с песчаноглинистой почвой, усыпанной мелким щебнем. Последний был покрыт лаком пустыни и блестел под лучами солнца, словно смазанный салом. Но в общем эта пустыня оказалась не такой абсолютно бесплодной, как те площади, которые подходили к Эцзинголу с запада от горных гряд Бейшаня, и как эти горы; при взгляде издали все русла казались желтыми от кустиков, а площадки черными и блестящими. По руслам и вдоль их бортов, благодаря наличию песка, лак пустыни исчезал, песок, переносимый ветром, уничтожает его, и щебень имеет естественный цвет.
По мере подъема щебень становился немного крупнее. Ночлег был в одном из сухих русел, где верблюды нашли себе корм. За день мы поднялись на 250 м над уровнем Гашиуннора на протяжении 35 км. Такая же местность продолжалась на следующий день на первых 15 верстах, но затем голые площадки исчезли, почва стала песчаной, и подъем прекратился. С дороги, при взгляде назад, видна была вся обширная впадина с оз. Гашиуннор, тянувшаяся и на запад, и на восток за горизонт. Впереди же поднимались скалистые цепи Тосту и Ноинбогдо и ближе них холмы Сухомту. С песчаной равнины мы вступили в эти холмы по сухой долине и ночевали у двух ключей, дававших начало ручейку, который очень быстро исчезал в песчаной почве.
На этих двух ночлегах весь вечер, пока я писал дневник, в соседней палатке Цоктоев стонал, а лама бормотал молитвы, вероятно, отгонял злых духов от больного. Невольно приходили в голову тяжелые мысли о судьбе путешествия. Я боялся, что Цоктоев может умереть или тяжело заболеть, а лама ночью скроется, бросив караван на произвол судьбы, и положение сделается безвыходным. Рисовались различные возможные варианты этого положения с пропажей верблюдов и лошадей, ушедших на поиски лучшего корма, необходимостью бросить все снаряжение и выбираться пешком из пустыни, конечно, назад на Эцзингол по знакомой дороге, после долгого сидения на месте возле больного и т. п. Меня смущало то, что признаки оспы в виде сильного жара и волдырей не появлялись, и я, не будучи врачом, не мог определить его болезни.
К счастью, утром после ночлега в холмах Сухомту положение разрешилось самым курьезным образом. Так как запор у Цоктоева не поддавался приемам касторки, я закатил ему вечером хорошую порцию английской соли. Утром больной явился ко мне повеселевший и сообщил, что лекарство помогло; оно выгнало из его желудка огромного солитера. «Этот червяк, — сказал Цоктоев, — заполз мне, очевидно, в рот во время одного из ночлегов в Наньшане на сырой земле, и с тех пор он стал ворочаться у меня в брюхе и не давал мне покою. Я надумал это давно, а монгол Абаши подтвердил, но вам я боялся сказать, чтобы вы не подняли меня на смех. Но вот оказалось, что я был прав».
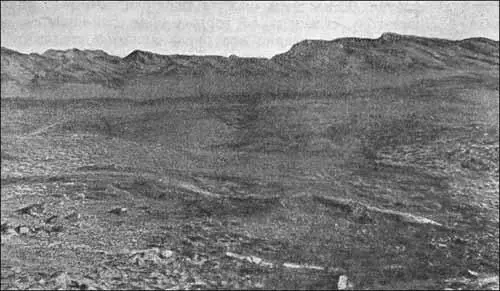
Рис. 74. Горы Душэ в Центр. Монголии
Я старался разъяснить ему, что солитера он мог получить только на Кукуноре, где мы впервые за все время ели рыбу, а, может быть, привез его еще из Забайкалья. Но он остался при своем убеждении. Во всяком случае его болезнь и моя тревога кончились, и можно было спокойно продолжать путь.
Девять дней с двумя дневками шли мы на север и северовосток, пересекая скалистые невысокие горные цепи и промежуточные между ними широкие долины Центр. Монголии (рис. 74). Те и другие дали много геологических наблюдений, так как и на дне долин часто попадались холмы или сглаженные выветриванием выступы горных пород, и работы все время было много. На всем пути растительность была самая скудная, на дне долин попадались площади, совершенно лишенные ее, но все таки лошади и верблюды на ночлегах у ключей или колодцев находили коекакой корм. Изредка попадались и юрты монголов, и в первых же я отпустил старого ламу, ведшего нас с Эцзингола, и нанял двух новых проводников, которые и привели караван к горам Дзолин, откуда мой маршрут должен был повернуть на юговосток к Желтой реке. В этих горах, вернее холмах (рис. 75), стояли юрты маленького монгольского чиновника, которому князь Бейливан прислал письмо с просьбой дать нам проводников. Я нанял опять двоих, так как одному с Цоктоевым было трудно быстро справляться с вьючкой каравана. Сборы их продолжались три дня, которые мы простояли в безотрадных холмах у колодца Баинхудук. Были уже последние дни октября ст. ст., и холода давали себя чувствовать: на холмах и в ложбинах широких долин лежал уже снег. Но морозы были слабее, чем в Вост. Монголии, и, кроме того, во время сборов в Сучжоу Цоктоев, по профессии кузнец, смастерил мне из листового железа маленькую печку с трубами. Она ставилась в переднюю часть палатки, топилась аргалом и хорошо грела, так что можно было работать по вечерам, не согревая застывающие пальцы и замерзающие чернила на свечке. Ночью температура в палатке, конечно, была почти такая же, как и снаружи. Цоктоев и проводники, по монгольскому обычаю, разводили огонек в своей палатке, где варился также чай и ужин. В этой палатке был разрез вверху для выхода дыма.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: